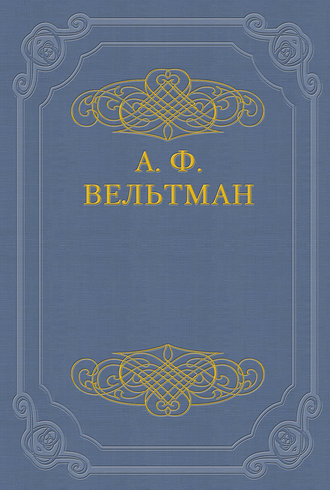
Александр Вельтман
Кощей бессмертный. Былина старого времени
XVI
Великий человек не удивляется ничему, что судьба дает ему; как законный наследник принимает он от нее и золотые горы, и жемчужные поля, и алмазные реки, и двор, построенный из мелкого, разноцветного бисера.
Ива был великий человек. Он не дивился тому, что с ним делалось. Точно так же, как и прежде, смотрел он любовным взором на дворовую челядь, на Татарина и на побратима своего черного Жука.
Но челядь, Татарин в черный Жук изменились к нему; строгим взором Боярин Люба внушил в них понятие, что Ива Иворович Пута-Зарев уже не дворовый дурень, не рябая зегзица; что Князь ему крестовый отец, а Боярин цтя.[94]
– Ива Иворович! – сказали Ростислав Глебович и жена его, возвращаясь из церкви в двор свой. – Поздравляем тебя с милою женою Глебовною!
– Милою женою Глебовной? – отвечал Ивор, посмотрев на Глебовну, у которой в глазах светились слезы.
– Баба Глебовна! – продолжал он, подражая обычаю тестя своего. – Сними с головы моей шапочку, а я утру тебе слезы!
С добрым намерением уже поднял он полу кожуха своего, но Глебовна отвернулась, оттолкнула его руку.
– Грозная, как ма́а! – сказал Ива.
И посадили его с Глебовной за браный дубовый стол с разными ествами сахарными и питьем медвяным. И пришли к нему на поклон и дворовая служба, и челядь, и деревенская смерда, и Бохмит Кара-юли; только черный Жук, лежа посреди середы[95] светлицы, распустив брыле и развесив уши, гордо на все смотрел и иногда только изъявлял свое негодование и презрение к поклонникам Ивы глухим лаем.
Нужно ли говорить, что Боярин Люба торопился ехать с милым зятем своим к Князю Мстиславу.
На другой же день…
– На другой же день! Но как же прошел первый день? – спросит привязчивый читатель, который любит все мелочные подробности до безумия.
Я в подробности не вхожу. Но скажу только, что и сей день, так же как и прочие, кончился захождением солнца. Глебовна же, оставшись наедине с Ивой, сказала ему наотрез, что до тех пор, покуда не сходит он помолиться богу в Иерусалим, она не поделится с ним ни душой, ни телом.
Итак, на другой день Боярин Ростислав Глебович отправился с зятем своим в город Каменец, к Князю Мстиславу Мстиславичу.
Не буду описывать радость Мстислава, когда он увидел крестника своего пристроенным и счастливым.
«Теперь я спокоен и могу исполнить данное слово покойным родителям Ивы», – думал он.
Боярин Ростислав Глебович рассказал Князю подробнейшим образом, с каким радушием принял он ограбленного Гайдамаками крестника его Иву Иворовича, полюбил его как сына и женил, по доброй воле, на своей дочери, прекрасной Глебовне.
Мстислав Мстиславович дал рядную запись Боярину Любе на обещанную деревню в 50 дворов, на реке Луче, и десять золотых гривен. Крестнику же своему и его молодой жене дал в отчину большое село Студеницу на реке Стры.
Благословляя же Иву и прощаясь с ним, он вручил ему серебряный ковчежец, наследство отца и матери.
Таким образом, раззолоченный Ива Иворович прибыл на новоселье в Студеницу, куда во время гостьбы[96] Боярина Любы все семейство его, извещенное о дарах Князя, успело уже переселиться из бедного Заборовья.
XVII
– Видь! – вскричал Ива, вбежав в покой Глебовны и показывая ей серебряный ковчежец.
Глебовна не обратила внимания на слова Ивы, но чеканный ларчик с печатью тронул женское любопытство, а женское любопытство восторжествовало над равнодушием. Глебовна протянула руку.
– Слюбен я тебе? – сказал Ива, спрятав за пазуху руку, в которой держал ковчежец, и украсив безобразие свое сладкою улыбкой.
Глебовна могла пересчитать все перловые его зубы, могла слышать, как билось его сердце, и видеть, как прищурились от душевного восторга его глаза.
Но она, холодное существо, не поняла этих мгновенных красот, которые показались на лице Ивы; она даже – злодейство! – тяжелою рукою своею смахнула с него счастливую улыбку!
– Вот тебе мое слюбленье! – вскричала она и с этими словами выхватила из рук Ивы ковчежец, и, прежде нежели он успел откинуть густые волосы свои, которые накатились от удара на очи, разорвала печать на ковчежце, отперла, взглянула в него, бросила его назад прямо в лицо Иве, и – ушла.
Ковчежец ударился в широкое чело бедного Ивы; с криком ухватился он обеими руками за голову. Ковчежец покатился по полу, и зеленая травка, как будто только что сорванная с заветных лугов великокняжеских, выпала из него.
Черный Жук, смиренно лежавший во все время в углу, подле муравленой печки, вскочил, бросился на травку, обнюхал ее, съел и – стал извиваться около Ивы.
Ива думал, что это жена его.
– Идь в сором, бесова внучка! – вскричал он. – Чтоб тебе ни доли, ни воли, ни радости, ни угодья, ни лагоды, ни усыпу! Чтоб тебя черный вран крылом притрепал! Чтоб тебя черный Див у молвил!
Ласки черного Жука более и более увеличивались; как любовный приятель ходил он около Ивы; пушистый, огромный хвост его то поднимался вверх и расстилался по хребту, то описывал круги, то прятался между ногами – казалось, что, виноватый перед Ивою, Жук умолял его о прощении.
Ива не принимал ласк; закрыв лицо руками, он продолжал проклятия: «Идь проче! не емлю Чагу гнезда бесова за жену!.. проче!..»
Жук не вытерпел, приподнялся на задние ноги и облапил Иву.
Жук завыл… и, как будто желая привести Иву в чувство, ударил его лапою по голове.
– Ууу! – возопил Ива.
– Ууу! – завыл черный Жук… покрыв собою Иву.
Чудное действие Эмшана! И не удивительно: довольно было понюхать, чтоб полюбить кого бы то ни было, а Жук не только понюхал, но и съел дивную траву.
На крик и вой сбежались все домашние. Боярин, воображая, что Жук по старой привычке травит рябую зигзицу, насладившись несколько минут картиною, которая была для него всегда так приятна, наконец отвлек Жука от Ивы.
Ива очнулся. Сердито окинул он всех мрачным взглядом исподлобья и молчал.
Так прошел день; к вечеру, добрая душа, он все забыл и стал ласкаться к Глебовне.
А Глебовна повторила ему: что не поделится с ним ни лаской, ни добрым словом, покуда не принесет ей монисто из Иерусалима.
– С заранья иду! – отвечал ей Ива и смиренно, сотворив молитву, опочил до заранья.
XVIII
На другой день, чем свет, поднялся Ива на ноги. Все еще спали. Надев богатый кожух свой оловира грецкого, сапози червленого хъза[98] и соболью шапку, он отправился прямо в конюшню; оседлав борзого комоня, перекрестился, подвел его к высокому камню, влез на камень, взобрался на коня и пустился стрелой со двора.
– Куда? – раздался позади его голос.
– В Русалем! – отвечал Ива не оглядываясь.
«Где ж научился Ива ездить верхом?» – спросят меня.
Гений все постигает без учения.
Вероятно, теперь всякий читатель ожидает подробного описания путешествия Ивы Иворовича в дальний Иерусалим; путешествия, столь же любопытного, как трудная повесть «о том, как Василий Буслаевич, любимый сын матерой Вдовы Амельфы Тимофеевны, взяв от нее великое благословение идти в Иерусалим-град, богу помолитися, святой святыни приложитися и во Иордане реке искупатися, бежит в червленом корабле, со всею хороброю дружиною, прямым путем: по озеру Ильменю, по Каспийскому морю, мимо острова Куминского, по Иордану по реке; кидает якори крепкие под стенами Иерусалимскими, служит обедню с молебнами, расплачивается с попами и с дьяконами, поднимает снова паруса полотняные, едет назад по реке Иордану, по морю Каспийскому, мимо славного острова Куминского, по Ильменю озеру до той горы Сарачинской, где стоит высокий камень в три сажени печатные и где ему сказано бабою залесною положить свою буйную голову».[99]
Подобная трудная повесть поучительна и занимательна; но, сколько известно мне, Ива совершил хождение свое из Понизовской земли во Иерусалим сухим путем; и потому его путешествие еще более должно быть поучительно и занимательно.
«В лето 6728-е, говорит неизвестный летописец, Ива Иворович иде Славенскою землею во Иерусалим и негде у торга Чернавца пленен бысть Айдамаками Угорскими и обьщьствован и вмале не убиен, и убежа, и вбежа в торг Роман, идеже, жалости ради, взят бысть Урменским купцом и везен в Дичин (вер. Диногетия, Галиц) и далее…» А далее в летописи ничего нет…
XIX
В 1262 году – когда уже Русская земля была данницею Татар и только смелый Даниил Галицкий не оставлял любимой думы о средствах избавиться от ига поганых Таурменов, Бессерменов, Бахмитов – около исхода Червеня[100] или вернее около начала Зарева[101] в Понизовской области, Боярин одного села при реке Дана-Стры был имянинник и в ожидании гостей распоряжался в своем красном Боярском дворе.
Главное внимание обратил он на свою псарню. Любимец его, Стременной, встретил господина своего поздравлениями:
– Даруй тебе бог, Боярин, обнести серебряным тыном красный двор твой, а на полях твоих Боярских уродись бурмицкое зерно, а возьми за себя Боярин Княжескую дочь, а надели она тебя дочкой в сорочке, сынком в шапочке, а принеси тебе Усюсю девять выжлят, один в один…
– А что Усюсю? грех молвить, – спросил заботливый господин.
– На износе, государь, на износе, да не печалуйся!
– То-то будет в сей день у меня гощенье, подивить хочу, грех молвить, всех гостей своею охотою!
– Да и где ж диво, как не на твоей Боярской своре, Усюсю не в час осела, ну, заголосит Ставра, подымется Юлка, повалит Зуб! Брза впустит клыки!.. А Олей? – Диво!.. Покойная, Боярин, родная твоя Глебовна, подала мне стопу зелена вина, как взвидела, как Олей сорвал с быстрых ног зайца!..
– У, тучный! – молвил Боярин, осматривая собак своих и разглаживая круглый живот развалившейся Усюсю.
– А что, боярин, – продолжал Стремянной, – и Немчин будет в гости?
– Какой Немчин? Вельможа, грех молвить, Угорского Короля? будет.
– Немчину, Угру, одна вера! В одну оглоблю ездят! Бесово гнездо! да и того не ведают, что бог дал голову, чтоб носить бороду! Чай, в мовню с женами не ходят?
Не отвечая на слова Стременного, Боярин отправился в свои хоромы, там встретил его верный ключник и ларечник домовый Ян. Покуда Ян кланялся господину своему, ласточка, летний добрый сосед зажиточных людей, влетела в окно.
– Доброе знамение, ластовица! Боярин! будет гость нежданный, – сказал Ян и стал выгонять доброго вестника из светлицы.
– Сегодня последний день ластовицам погостить на земле, – продолжал многоречивый Ян, – наутро вдруг згинут. Иона Белый, мельник, говорит, что ластовицы улетают зимовать на луну.
– Иона Белый, что принес мне на поклон маковник воутрие?
– Маковник? – сказал с удивлением Ян. – И Боярин снедал?
– Не весь, а уломил, грех молвить, – отвечал Боярин.
– Ой? И невесть какая молва идет про Иону Белого: он чаровник!
– Ой! – в свою очередь вскрикнул со страхом Боярин.
– А чем дарил его, Боярин?
– Ничем.
– Придется откупаться! Недаром нечистый дух принес сластей! Того и гляди, что поведет тугою!.. А откупаться, Боярин, дорого, снести бы маковник к вещунье Секлекетикии, да поклониться ей гривнами, чтоб отговорила.
– Идь, Ян, идь! – вскричал напуганный Боярин.
– Сегодня Пяток, Боярин: вишь, говорит, в Пяток прикинется волосатик либо ногтоедица… Да терпеть-то нет часу!
– Идь, Ян, идь! за волосатик заплачу три серебряных гривны, а за ногтоедицу, грех молвить, что хочешь!
– Счетом, Боярин, да четом. Ворожеи любят чет. За все про все десять гривен вдоволь.
– Ой! – сказал Боярин и вслед за сим словом отправился в кладовую.
Ян получил десять серебряных гривен, которыми должно было откупить спокойствие и благоденствие его господина, отправился в соседнюю деревню Яры, которая славилась хмельной брагою и где водилось у него много любовных приятелей. К ним-то являлся он часто делить время, брагу и добычи заслуг, хитростей, плутовства и нечистой руки своей.
Чтоб пояснить хоть несколько все предыдущее, мы должны сказать читателям, что вышеписанный Боярин, нисколько не постороннее лицо тому поколению, об котором идет моя длинная речь, слово, песнь, повесть, сказание, история, быль, вымысел, поэма, ядро, роман.
Его величали: Боярин Савва Ивич Пута-Зарев.
Ему было от роду около 40 лет, но он был еще моложав и свеж, ибо до 39 лет с месяцами жил он в руках строгой родительницы своей Глебовны.
Пестун Ян был давний его угодник; надеясь более на грядущее утро, нежели на потухающий вечер, он всеми силами способствовал баричу Савве преступить заповеди государыни, родной матушки: не лазить по деревьям за гнездами, не ходить тайком в оградину и в посиделки, не водиться со смердами и т. д.
Савва Ивич любил Яна.
Но вот настало для него время плача и рыдания. Глебовна, как не вековечная, опочила сном могильным. Дедушки уже не было, бабушки уже не было, родной матушки не стало.
И вот Савва, сказав сам себе: «Все мое!» – вступил во владение отчины и стал управлять двором, имуществом и богатством, людьми и скотами, и в особенности наследственною псарнею.
Ян, как надежный и верный слуга, принял от него ключи и назвался Боярским ключником и ларечником; однако же ларец с золотом, серебром и честными каменьями избежал от его охранения; ибо в старину водилось обыкновение: никому не доверять ключа от денег.
Ян, как мудрый Думец, добрыми советами и наставлениями поселил в своего Боярина все необходимые причуды и веру в приметы, сны, чары и во все затмения ума и разума.
Кто умеет толковать сны, кто знает, как оберегать от дурных примет, знает, как предупреждать беду от просыпанной соли, от глаза, от заговоров, знает, что должно брать левой рукой, что правой, знает, где плюнуть, где перекреститься, которой ногой встать с постели, в который день начинать дело, кто все это умеет и знает, у того в руках узда на суеверных: от его воли зависит оседлать глупца и проехать на нем верхом от угла до угла в предупреждение, чтоб он в числе тринадцати не был тринадцатым.
Ян владел этой чудной уздечкой и правил господином, как своенравный кормчий послушным кораблем; носил его мысли и желания по своему произволу, как степной ветер носит перекати-поле.
Ян воображал, что это продолжится до скончания века, и потому, насвистывая любимую свою песню, пробирался он чрез гору в соседнюю деревню Яры, ни мало не предчувствуя того, что судьба строит против него ковы и кует крамолы.
XX
На дороге, которая шла за загородой села Студеницы, по скату горы, сидел на камне старик в сером кармазинном кожухе. Татарский малахай прикрывал седые его волосы; щетинистые ресницы прикрывали глаза, а длинная борода прикрывала всю грудь его. Время, а может быть, труды, или тяжелые ноши, или добрые люди, согнули его в три дуги, если не более, и безжалостно изрыли чело и все пространство, ограничивающееся волосами, бородой и ушами; потому нельзя было узнать ни настоящего его роста, ни настоящего выражения лица.
Обняв обеими руками посох свой, он преклонил к нему широкое чело свое и, уставив очи в землю, поведывал что-то самому себе вслух:
– Что ты бормочешь, Чаган?[104]
Старик посмотрел на Яна.
– Не Чаган, а Крестьянин, Ходжа.[105]
– Какая Ходжа?
– Иеросолимской.
– Ой? Не вынес ли малую часть от гроба господня?
– Зуб уломил! – отвечал старик. – Монисты вымолил у мниха! от туги ли, от неплодицы ли… Жене несу.
– Ай дед! кое тебе лето? – спросил, захохотав, Ян.
– Лето? Бог весть; за поморьем все лето, нет веремя.
– Али и конца животу там нет?
– Да нет; живи себе, покуда Магомет-Султан не укажет снести голову да на кол усадить. «Салмалык, салмалык, анат фема!» – только и речи.
– Страсти!
– А что, Студеница се?
– Студеница.
– Ту двор мой! – сказал старик, встал и пошел с горы, к селу.
Ян осмотрел его с ног до головы; произнес с досадою: «Брешешь! Чаган окаянный!» – и также пошел своею дорогою в деревню Яры.
Между тем на Боярский двор селения Студеницы прикатили гости в колах, телегах и верхом.
Толпы Доезжачих, Стременных, Ловчих, Псарей с заводными конями и со сворами собак охотничьих вслед за ними.
Полевая рать выстроилась в ограде, и прозвучала в берестовые рога и кованые трубы весть о прибытии на Стан.
– Тобе ся кланяем! – сказали гости Боярину Савве, поднимаясь на крыльцо, складывая арапники и затыкая их за шелковый пояс.
Отвесив гостям своим торопливый поклон, Савва Ивич бросился к сворам псов и приветствовал их как родных, как верных друзей своих, объятиями, ласками, нежными словами, душой, сердцем, радостию и всею искренностию приязни.
Не буду описывать всех тех ласк, которыми Савва Ивич осыпал гончих и борзых псов. Восторг охотника непонятен для человека, который равнодушно думает о благородном занятии своих предков. Борзая Стрелка на тоненьких ножках, с сжатыми зацепами, хорт Ласточка с перехватом, звонкая Юла с волнистою степью, Зарница с острой стерляжьей головкой и с правилом,[106] свернувшимся в кольцо… Это такие существа, которых не заменит ни любовь, ни дружба.
Воевода, уверенный в победе, не едет так гордо на коне своем и не смотрит так доверчиво на рать свою, как лихой охотник на скачку псов, бегущих вслед за ним.
Перегнув набок шапку, избоченясь на Угорском седле и на коне Татарском, он смотрит вдаль и охотничьим глазомером предугадывает, где зверь красный, где мелкий и где нет ничего.
Какая дисциплина во всех, движениях! Мин проглядел серого, заяц прокрался между двух зорких глаз его, бич выправляет спину Мина, вставляет ему новые глаза, дает верный прицел, снабжает его надежным вниманием, обновляет, молодит старого Мина, который несколько уже десятков лет как ходит с верою и правдою за любимыми псами своего Боярина: кормит их, голодая сам, укладывает на мягкие подстилки, страдая сам бессонницею от изломанных боков, рук и ног; скачет по рвам и пущам за зверем и, не в свою голову, бережет Боярского коня.
Великое дело были в старину война и охота!
«А се труждахся ловы дея, – говорит Владимир Мономах в своей духовной, – конь диких своима рукама связал есмь в пущах 10 и 20 живы конь. Тура мя два, метала на розех и с конем, олень мя один бол, а две лоси один ногами топтал, а другый рогами бол; вепрь ми на бедре меч оттял; медведь ми оу колена подклада оукусил, лютый зверь ко мне скочил на бедры и конь со мною поверже, и Бог неврежена мя сблюде; и с коня много падах, голову си розбих дважды, и руце и нози свои вередих, в оуности своей вередих, не блюдя живота своего, не щадя головы своея».
Золотые, богатырские времена! Что мне в этой пуховой неге, которая вас заменила!
Утерев бобряным рукавом слезы на очах своих, я обращаюсь к Савве Ивичу.
Осмотрев чужих хортов и показав своих, променяв ядро на скорлупу, он велел убирать белодубовый стол скатертями браными и подавать ествы мясные, рыбные, ковриги[107] и погачи,[108] и питья медвяные.
Вот Савва берет уже куфу[109] с слибовицей и сам подносит гостям: сперва новому знакомцу своему, Младеню Черногорскому, у которого два хорта ценой на вес золота, два Стременных ясных сокола, конь Арабский, покрыт червленою паволокою, а седло и узда золотом кованы.
Потом подносит он любовным приятелям своим Радану от леса, Клюдовичу с Веселого Хлёмка, Риву с Черного бора и Ляху Мниславу.
Все готовы уже садиться за стол… вдруг на дворе раздается шум и крик. Бегут к окну.
XXI
Посреди двора седой старик, окруженный челядью и холопами, отбивается длинным своим дубовым посохом, отбивается удачно.
Дубинка, как будто по щучьему веленью, а по его прошенью, работает сама, ходит вдоль и поперек по головам, по бокам, по рукам, по ногам и считает ребры.
С воплем удаляется челядь один за одним. Около старика поле чисто, и вот, очертив воздух еще несколькими волшебными кругами, он опускает свой посох, подпирается им и продолжает свой путь к хоромам Боярским.
– Радуйтеся, что на пути из Иеросолима покрали мой ятаган! Снес бы вам, поганые холопы, по голове, узнали бы, вы своего Боярина! – говорил он, поднимаясь на крыльцо, на котором уже стояли Савва Ивич и гости.
– Чего тебе, старая клюка! – вскричал Боярин грозно.
– Требен мне не ты, дубовина, а требен Боярин Родислав Глебович, да моя Глебовна!
– Чу! Боярин Савва, подавай ему Глебовну! Не сродни ли он тебе? – произнес насмешливо Клюдович с Веселого Хлёмка.
Все гости захохотали, кроме смущенного Саввы и Младеня Черногорского, который, кажется, никогда не унижал прекрасной и гордой своей наружности смехом. Иногда показывалась на лице его презрительная улыбка, и то тогда только, когда малодушие людей трогало его чувства.
Старик, не обращая ни на кого внимания, пробрался сквозь толпу гостей в светлицу.
– О, – говорил он, – будут Глебовне добрые повести от Ивы Иворовича Путы-Зарева! Где же Глебовна? И обед на столе!..
– Не с погоста ли, старень? Преди поклонись хозяину, потом проси гощенья! – сказал Лях Мнислав, показывая старику на Савву Ивича и заливаясь смехом.
Старик посмотрел на него, потом на Савву и пошел далее.
Есть предчувствие или нет? Что такое предчувствие? Не есть ли оно тайный вожатый преступника к казни, а доброго к награде?
Но по предчувствию или просто случайно, только Савва Ивич ходил за стариком, как Гридень за Князем. Все гости, кроме Младеня Черногорского, также шли вслед за ним, забавляясь и смущением хозяина, и чудным стариком, который торопливо пробегал светлицу, сени, камару, терем, внимательно все рассматривал и чего-то отыскивал взорами. Казалось, что он удивлялся какому-то беспорядку, который вынес вон все знакомые ему вещи и заменил другими.
Собралась и любопытная челядь, собрались холопы и слуги. Все толпилось вслед за ним.
Наконец старик остановился. Обратился к толпе, стукнул об пол посохом.
– Где же Боярин Люба, где Касьяновна, где Глебовна, где Татара Кара-юли, черный пес Жук, пристав Яслина, сокольничий Яруга, ловчий Мазур и вси, вси, вси? – возопил богомолец Иерусалимский.
Громкий общий смех преследовал слова его.
– Отъиде вси на суд божий, старень! – отвечал ему Клюдович. – По вечери пожелал ты утра! Утро на погосте, и Родислав Глебович на погосте, и Глебовна там, и Татара, и вси, вси, вси! Поклонись же, прославь сына Глебовны, Савву Ивича, дасть тебе, мимоходячему, и братна и питья.
– Сына? – вскричал старик. – Рода Пута-Зарева, ветви Ивиной, плоду Глебовны?
– Правдиво, правдиво! – вскричали все гости.
Старик приблизился к Савве Ивичу, осматривает его с ног до головы.
– Глебовны? – вскрикивает он наконец. – Глебовна дитя ми роди?
– Дитя ти роди? – вскричали гости. – Савва Ивич, тобе ся кланяем!
Боярин Савва Ивич стоял ни жив ни мертв, он считал старика дивом, принесенным Белым Ионом в маковнице, считал жильцом того света, пришедшим от деда и матери за ним.
К счастью его и к удивлению общему, слух о чудном старике, который, как домовин,[110] распоряжается в доме Боярском, поднял с печи старую Голку, няню покойной Боярыни Глебовны. Она пробралась сквозь толпу до старика, взглянула на него и вдруг повалилась ему в ноги.
– Родной ты мой! Боярин Ива Иворович! – вскричала она. – Сподобил тебя векожизные приидти с Русалима на родину… да не узреть уж тебе Боярыни своей, кормилицы нашей Глебовны! У Бога душа!.. а дал тебе Бог красное детище, Савву Ивича!..
– Красное детище Савву Ивича? – повторил старик, обратив взоры свои на Савву Ивича, который был вдвое его выше и вдвое толще.
Но вот догадливый Савва Ивич становится пред отцом своим на колени.
И прия его Ива Иворович любовно, говорит летопись.







