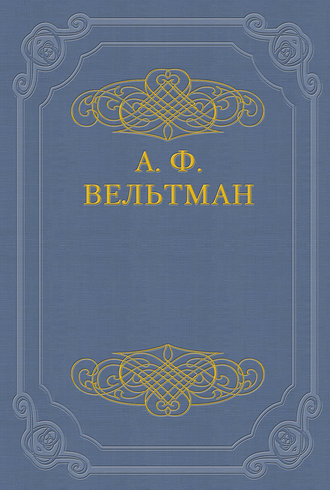
Александр Вельтман
Кощей бессмертный. Былина старого времени
– Оувы тебе!.. пожди мало! – кричал Ива, преследуя Татар.
Но Татары не ждут: взвивают пыль по дороге, колеблют землю.
– Оувы тебе! пожди, окаянный! – повторяет Ива Олелькович.
И вот один отставший раненый Татарин, бывший в отряде Тайтзи, как будто вновь пораженный богатырским голосом Ивы, падает с коня и остается на дороге, не замеченный товарищами.
– Ага! – восклицает наскакавший на него Ива и приставляет тупой конец сулицы к груди.
Татарин вытулил очи, смотрит на богатыря и молчит. Обида богатырю: побежденный не просит пощады!
– А! – восклицает снова Ива и ударяет Татарина тупым концом сулицы в грудь.
Татарин зашевелил руками и ногами, ловит сулицу; но молчит.
– А! – восклицает опять Ива и поворачивает сулицу острым концом.
Между тем как Ива Олелькович меряет силы свои с бездушным Татарином и поражает его острым и тупым концом копья в грудь, народ Белогородский, высыпавший на стены, видел все военные хитрости Ивы Олельковича; видел, как своротил он в лес и, пробравшись дубравою, вдруг хлынул на врага, обдал Татар страхом и трепетом и погнался за ними через поля и горы.
Всякий своими собственными глазами видел подвиг Ивы Олельковича и его победу, какой ни одна старина не запомнит.
Радостные крики огласили город. Сердце княгини Яснельды вздрогнуло, опало от полноты радостных чувств.
Народ высыпал из стен встречать героя. А Лазарь с слезами на глазах стоит уже подле него и уверяет, что Татарин по причине смерти своей не может уже просить о пощаде.
С громогласными кликами толпы Белогородцев окружают Иву Олельковича, берут под уздцы коня его и ведут в город.
Громкие бубны и гулкие трубы провожают.
В воротах города встречают Иву старейшины.
От мала до велика народ весь на стогнах дивится.
– Оле диво, чюдо, братие! – восклицают со всех сторон.
Вот опять при дворе Княжеском встречает богатыря хоровод дев; на крыльце Бояре подносят ему заздравную чару зелена вина, принимают его под руки, ведут в мовню, из мовни в Княжеские светлые сени; в сенях встречает его с приветом Княгиня Яснельда и ведет за столы белодубовые, за скатерти браные. Сажает Иву на первое место, наливает своими руками Турий рог питья медвяного, разламывает сладкую перепечь надвое; одну полу ему, другую себе.
Ива Олелькович, не обращая внимания на Яснельду, без обычного: «Спасибо-ста, Боярыня, Княгиня!» – берет и кушает.
Подносят ему с челобитьем: на серебряном блюде лебедя жареного, да щи богатые, да уху живой рыбы, да спину белой рыбицы, да куря под взваром, да перепечь крупичатый в меру, да блюдо пирогов кислых с яицы, да пирог росольный, да каравай яцкий, да маковник, да папошник с медом, да взвар со пшеном и с ягоды, да коврижку с узорьями пряную, да смоквы.
Подносят ему с челобитьем кубок меду, да ковш серебряный, лаженный жемчюгом, пива ячного, да кружку злаченую в 12 гривен весом с олуем, да разные кубцы и роги злащены с медом и с вином Фряжским и Гречким.
Ест Ива досыта, пьет допьяна и молчит.
Велит Княгиня Яснельда петь своим красным девушкам-певицам песнь унывную.
Поют девушки песнь унывную:
Загрустила зоря, зоря-зоренька;
Зоря ясная опечалилася:
Ой вы, звездушки, вы, голубушки,
Вы подруженьки мои милые!
Не горите, светы мои, радостно!
Улетел мой сокол, ясно солнышко
Ходит по небу, небу синему,
Сыплет по миру… лучи светлые;
Позабыло меня мое солнышко
И покинуло меня красное!
Скоро ль, солнышко, ты воротишься?
С зорей-зоренькой ты обоймешься?
Не воротишься, обольюсь слезой,
Не воротишься, то потухну я,
Кинусь с горя-тоски в море синее!
Между тем как красные девушки поют, а Княгиня Яснельда обращается с приветами к Иве Олельковичу, он спокойно продолжает кушать и водить взоры кругом себя.
В Княжеской светлице много невидали.
Светлица с круглым выходцем на реку.
В светлице оконцы с писаными цветными стеклами Варяжскими.
Вокруг потолка выложено черепом муравленым.[241]
Середа из белого камня.
Резной узорчатый потолок из черного дуба, да из белого дуба.
Палица с подзорами.[242]
Лавки кругом устланы полавочниками[243] шелковыми, бахромчатыми.
У стены поставец[244] с кованою утварью.
На нем стоят мисы златые, блюда великие златые, кубки златые, лаженные жемчюгом и драгим камением, ковши серебряные червчатые, кружки, курганы, чары, чарки, лохани, турьи рога… Все золотое, серебряное, с узорочьями, с жемчюгом, бисером и самоцветными камнями.
Ива Олелькович в первый раз видит такое богатство, но он не дивится, не чюдится ничему.
Но в какой восторг пришел Ива Олелькович, когда с левой стороны светлицы, чрез открытую дверь увидел оружницу. На стене червчатый кованый щит, и кольчатые доспехи, и меч обоюду острый с чешуйчатым влагалищем, и лук с налучнею, с рогами красного золота, и тул, полный стрел, перенных орлиными перьями, и высокий шелом с драконом-змеею.
Не замечает Ива Олелькович, как Княгиня Яснельда выпивает за здравие богатыря, спасителя Белогородского, турий рог меду сладкого.
– Во здравие! – говорит Княгиня.
Ива не слышит. Продолжает рассматривать, любоваться длинною сулицей, которая стоит в углу, и палицей, которая лежит на подставах.
– Что не промолвишь, государь Ива Олелькович, красного словечка? – говорит опять ему Княгиня.
– Ась? – отвечает он, устремив взоры на стяг[247] паволочитый и хоругви, тут же расставленные около стены. Ива понять не может: что это за оружия? В Сказках об них не было ни слова. «Это, – думает он, – еловцы с богатырских шлемов».
Между тем Княгиня с досадою выходит из-за стола; встают Княжеские Бояре, Думцы и Княжеские Боярыни; молятся богу, кланяются в пояс Княгине.
Ива также не отстал от прочих; но во время чтения благодарственной молитвы за трапезу он уже был в оружнице и распоряжался там.
Грустная вошла Яснельда в свой терем, приказав ублажать, покоить богатыря-спасителя и дорогого гостя в богатой одрине.
Ива Олелькович был ей по сердцу. Все странности его были для нее обидны; но нравились ей. «Это свойство великих душ», – думала она.
Женщины любят чудаков и храбрых.
Хотя Княгиня Яснельда не более года как произнесла над смертным одром Белогородского Князя, мужа своего: «О свете, мой светлый! како зайде от очию моею и како помрачился еси? Почто аз преже тебе не умрох!» Но время похитило у нее драгоценную скорбь о прошлом и заменило скорбью о настоящем.
Трудно представить себе влюбленную красавицу 14 столетия. В старину не то что теперь. Усладив сердце слезами, она припевала про себя:
Не воркуй во бору, голубица сизая,
Не кличь на струях, лебедь белая,
Ты умолкни, свирель голосистая,
И без вас тоска погубила меня!
Я напрасно кладу богу жалобы!
Что без милого мне сердцу близкого?
Скину я с головы венец Княжеский,
Сброшу с плеч багряницу золотную!
Мне родная земля как чужая страна:
Горем черным она вся усеяна,
Да слезами она вся поливана!
Боярыни, мамушки, нянюшки и дворовые Княженецкие девушки подслушивали ее, шептались и, смотря друг на друга, качали головами.
Но вот доложили Княгине, что богатырь Ива Олелькович, взяв в оружнице шлем богатыря Якуна, деда Княжеского, и стяг войска Белогородского, собирается ехать.
Княгиня не рассердилась на самовольство Ивы Олельковича. «Просите его остаться на праздник заутрия, просите!» – сказала она и разослала по очереди всех своих Боярынь просить Иву Олельковича остаться у нее гостить.
Хитрые придворные узнали, что конюший Лазарь был ключом к воле своего барича, и потому, не успев уговорить Иву лично, они угостили Лазаря; а Лазарь, доказав, что ни накануне великого праздника, ни в праздник ехать в путь не должно, убедил Иву Олельковича остаться в гостях у Княгини.
Между тем Княгиня Яснельда имела совещание с своими Княжескими Боярынями, а потом с великими и вящшими мужами и думцами Белогородскими. Между прочим, на-утрие, велела она приготовить в саду своем полдник и празднество на весь мир. Ключникам и ларечникам приказала она выставить на свет все богатство Княжеское; стольничим изготовить многоценные яствы; чашникам выкатить бочки меду и пива и разных иных напитков.
Исправнику веселья собрать хороводы, скоморохов в харях, медведей, что пляшут, да в клетке птицу многоцветную, да птицу Индейскую с птенцы, да соколов с челичами, да зверя, иже есть ублюдок с хвостом… и многих разных иных дивных вещей.
Все готовилось по ее приказу.
X
Ива Олелькович после великого подвига спал еще крепко. Высоко взошло уже солнце, на звонницах Белгородских колокола загудели благовест.
Иве Олельковичу видится во сне Кощей:
Старик не старик, а сед как лунь и весь в морщинах; человек не человек, а с руками и ногами; зверь не зверь, а с когтями и с хвостом длинным, как вдаль извивающаяся дорога; птица не птица, а с красным клювом да с мохнатыми крыльями, как у нетопыря; конь не конь, а из ноздрей дым столбом, из ушей полымя.
Чудовище несет на себе Мириану Боиборзовну; вокруг него день не день и неуденье; ночь не ночь и не полуночь, а так что-то светлее полудня, темнее полуночи; а Мириана Боиборзовна, бледная, как утренний месяц, так и рвется, так и мечется, а слезы из очей как перекатный жемчуг.
Взбурился Ива Олелькович. Хвать за шлем – шлем к столу прирос; хвать за меч – меч к бедру прирос; хвать за сулицу – гнется в три дуги.
– У у у! – заревел Ива, бросился на Кощея, вцепился в него.
– О о о! – раздалось над его ухом. Ива очнулся.
В руках его борода посланца Княгини Яснельды, Боярина, который пришел звать его к ней в гости, в Княжой сад, где она уже ожидает его с Боярами, думцами, гриднями, мечниками, купцами и со всею дворнею Княженецкой и со всеми жилыми и вящшими людьми Белогородскими.
Ива Олелькович, видя, что у него в руках не Кощеева борода, бросил клок волос в лицо Боярину и стал осматривать кругом себя: тут ли меч, тут ли шлем, тут ли все прочие его доспехи, все прочее его вооружение, и особенно чёлка из длинных конских крашеных хвостов.
Все было налицо; богатырь успокоился. Между тем Боярин, оправив бороду, поклонился ему земно и произнес речь призвания богатыря на пир Княжеский.
Ива Олелькович готов уже был произнести: «Нетути!» – но Лазарь предупредил это грозное слово вопросом: доспехи воинские наденет он или оксамитный кожух, сеянный камением и жемчюгом, присланный ему Княгинею?
Ива Олелькович и смотреть не хотел на одежду, не свойственную человеку ратному.
Едва только облачился он во всеоружие, явились от Княгини еще несколько посланцев, Бояр, с приглашениями. Они взяли его под руки и повели в сад, где Княгиня, возвратись от литургии, ожидала уже его с нетерпением, сидя на резном пристольце, под заветною душистой липой; подле нее был другой, на котором она посадила богатыря Иву Олельковича.
– Как изволил спать-ночевать, государь Ива Олелькович? – произнесла Княгиня.
– Ась? – отвечал он.
Княгиня не знала, что говорить далее; так сильно было уважение ее к великому мужу, храброму и могучему витязю.
Начались гощения, начались песни и игрища.
Хоровод пошел по поляне сада; заплясали и два медведя; заходили ходунами и скоморохи в птичьих и звериных харях, в разноцветных перьях и в кожухах, вывороченных наизнанку.
Иве Олельковичу поднесли чару меду сладкого, но он не обращал на нее внимания, махнул рукой, чтоб не мешали ему смотреть на пляску и борьбу медведей.
– Эхэхэ! – кричал Читан, водящий медведей. – Не весть то, чи видмедь молодый, чи куропатва стара?..
Медведи заревели!
– Эгэгэ!.. а як-то, побачим, старая баба молодую брагу пила, да ее витром с ног сбило?.. як-то, побачим?
Медведю дали в чаше пива; он взял чашу лапами, выпил, стал переваливаться с ноги на ногу, зашатался и грохнулся об землю.
Читан продолжал таким образом допрашивать медведей про дела людские, про грехи мирские, а между тем к Иве Олельковичу подошли думцы Княжеские, сопровождаемые всеми вящшими мужами Белогородскими.
Они сняли шапки, поклонились Княгине и потом богатырю и повели речь:
– Велик есть в людях славный и лепый витязь Ива Олелькович! Спас он нас от врага всепагубного! Молят тебя, благородный осударь Ива Олелькович, град наш и веси вси, и народ наш, и церковь, и вдовствующая Княгыня: сесть на стол Княжеский Белогородский, и сидеть и княжить и хранить ны от силы Мамаевой, иже на Русь грядет. И приять в жену себе Княгыню Яснельду, с веном великим; она же тебе статность друга, благородие Княжеское и красоту свою дарствует!
Княгиня Яснельда, склонив взоры, зарделась как вечерняя заря. Бояре ожидали ответа. Ива Олелькович молчал; его внимание было устремлено на толпящихся вдали скоморохов.
– Государь Ива Олелькович! – продолжали Бояре, поклонившись опять до земли. – Одари нас твоим соглашением!
– Ась? – вскричал богатырь и сердито махнул рукою, чтоб все отошли прочь и не мешали ему смотреть на борьбу силачей.
Яснельда покатилась без памяти на руки Боярынь своих; ее понесли в палаты. Но обиженная гордость скоро возвратила ей память. «Вкиньте его в темный погреб!.. Вкиньте за обиду Белогородскую!» – произнесла она окружающим, и все бросились исполнять волю Княгини.
Но кто же осмелится взять богатыря Иву Олельковича?
Душа его вооружена мужеством, а тело силою.
По долгом совещании исполнители воли Княжеской всыпают сонного зелья в турий рог меду сладкого, идут к Иве Олельковичу.
Они застают его в толпе скоморохов, песельников и народа, подле двух медведей, повторявших пляску, полюбившуюся богатырю. Лазарь, красный, как раскаленный уголь, стоял подле своего барича. Он хохотал, заливался, как будто не перед добром.
– Государь Ива Олелькович! Княгиня кланяется тебе стопою меду сладкого, – сказали Бояре, поднося на серебряном подносе мед.
Ива не отказался, выпил.
Рожок залился, песельники гаркнули веселую песню, медведи заплясали.
Княжеские конюхи повели Лазаря на угощенье.
Бояре сторожат богатыря.
Вот отрывистый хохот его тихнет; глаза его слипаются.
– Княгиня просит Иву Олельковича в упокой! – говорят ему Бояре, почтительно кланяясь, и берут его под руки.
Ива Олелькович не противится. Латы на нем тяжелеют, шлем свихнулся на сторону, голова на другую.
Вот ведут его с честью в палаты Княжеские; проходят широкие сени, проходят дубовые двери, проходят подвал. В подвале темно. Является провожатый с фонарем, отворяют еще двери дубовые, кованные железом, вступают в низменный покой.
Ива покорен, как младенец; он уже едва переступает, храпит. Снимают с головы его шлем, отвязывают меч и тихо, молча, будто боясь, чтоб не разбудить уснувшего богатыря, кладут его на настланные снопы.
Молча, на цыпочках все выходят; двери притворяются; запор скрыпнул; медленно поворачивается ключ, и удар щеколды глухо раздается по подвалу.
XI
Слухом земля полнится, и потому возможно ли, чтоб стоустая молва и велеречивая слава умолчали о подвиге богатыря Ивы Олельковича?
Мамай, сердитуя, как лев, пыхая, как неутолимая эхидна, кочевал уже при устье реки Воронежа. Тут ожидал он своих пособников, Ягайла Литовского и Князя Олега Рязанского; но они, узнав, что Князь Димитрий Московский не утулил[248] лица своего и с Двором Княжеским не бежит в Новгород или в пустыни Двинские, не торопились соединиться с Мамаем.
Особенно Олег, хитрый и увертливый, как птица, следовал правилу: кто силен, тот и прав, кто в золоте, тот и друг; и потому, до времени, он избрал мудрую средину между Мамаем и Димитрием и дружески протянул одному правую, а другому левую руку.
Медленно стягивалась рать его к Оке; Белогородская отчина, принадлежавшая вдовствующей сестре его, Яснель-де, также поставляла часть войска.
Пришедшие из Белгорода воины рассказывали про чудесное спасение города богатырем Ивою Олельковичем от нечистой Измаильтянской силы.
«Велик и могуч, – говорили они, – богатырь Ива; ростом он выше Княжеских палат, а плечо от плеча далеко, как утро от вечера; с ног до головы окован в железную броню; мечом рубит горы наполы; лук у него величиною с дугу-радугу; тул с черную тучу, полную громовых стрел; а палице и меры нет».
Наслушавшись досыта рассказов про Иву Олельковича, как одним махом побил он целый лес силы нечистой, доверчивые Рязанцы, перенося рост и силу Ивы Олельковича из уст в уста, взлелеяли его и взрастили выше небес, сильнее древнего богатыря Силы Рязаныча, которого едва земля на себе носила.
Слухи дошли до Князя. Олег возрадовался чудной новости – она предупредила его намерение клич кликать по всей отчине своей и вызывать сильных и могучих богатырей. Он слышал, что у Димитрия в войске есть витязи Пересвет и Ослябя, которые хвалятся одни идти на всю силу Мамаеву, как же не поверить самовидцам о дивном богатыре Иве?
Покуда Олег снаряжает послов к сестре своей, просить отпустить к нему великого и могучего нашего витязя, мы возвратимся в те четыре стены, между коими заключен Ива Олелькович.
Читатели могли полагать, что, заключив героя романа в темницу, нам нечего будет сказать про него до самой минуты освобождения; но это неосновательно. Человек живет двоякою жизнью: положительною, т. е. деятельною, видимо, стремящеюся к своему концу, и жизнью отрицательною, стремящеюся к своему началу.
Посади в темницу какого-нибудь витязя настоящего времени – он будет проклинать или судьбу, или людей, или обстоятельства, или жизнь, или день своего рождения, или все вообще, чему не страшны проклятия; он будет даже лить слезы, чтоб показать или злость, или слабость свою; он будет вымышлять все средства, чтоб избавиться от неволи и отмстить и другу и недругу за насилие; но Ива Олелькович, как человек великий, как герой великодушный, стены, окружающие его, почитает призраком, наваждением Кощеевым и, не вооружаясь даже терпением, чтоб удобнее сносить гонения судьбы и людей, спокойно ждет видимой или невидимой руки, которая отопрет запоры и возвратит ему волю и коня, чтоб преследовать похитителя Мирианы Боиборзовны.
Исключая меч, стрелы и копье, Ива заключен был во всеоружии; кованые доспехи тяготеют на плечах его; но расстегнуть железные запоны брони и снять ее некому; и потому, во всем воинском облачении, он склоняется на постланные на полу ржаные снопы и предается вполне деятельности жизни отрицательной.
Всякий день сквозь отверстие в потолке спускается к нему плетеница[249] с хлебом, с солью и с водой, и чья-то рука зажигает перед иконой елей, и чей-то голос произносит:
– Государь Ива Олелькович, изволь сесть на стол Княжеский Белогородский, прими Княгиню в жены себе, и будет тебе честь и почесть.
– Ась? – говорит обыкновенно Ива Олелькович. Голос повторяет слова свои. «Нету-ть!» – отвечает Ива Олелькович, вполне уверенный, что Белгород, Княгиня Яснельда и весь Двор ее суть не что иное, как наваждение нечистой силы, и что с появлением дня, когда крикнут сторожевые петухи, все должно рассыпаться; но день не показывается, и петуха как будто на свете нет.
Опорожнив плетеницу, Ива Олелькович, по обыкновению, укладывается на снопах и мыслит о великих делах, о подвигах сильных и могучих богатырей, о Чуриле, о Добрыне, о Горыне, о Дубыне, о Усыне, семи отцов сыне, о Королевиче Разыграе, о Жар-птице, о Царь-девице и Мамазунах.[250] С ними Ива носится из царства в царство, из земли в землю, из края в край, из града в град; с ними просыпается, встает, умывает белое лицо ключевой водою, молится богу, облачается в доспехи, кланяется на все четыре стороны, садится на коня, выезжает в поле чистое, ломает копья, тручит по шлемам мечом. То помогает он Дубыне вырывать из земли столетние дубы; то радуется на Горыню, когда он мечет под облака скалы и давит ими поганые Ханские полки; то едет Ива с Разыграй Королевичем за воровкою Жар-птицей; то перескакивает на коне через ограды каменные и рвет золотые струны, протянутые от бойницы до бойницы; то вылетает из подземного царства на сером журавле и кормит его на полете белым своим телом; то несется вслед за коромыслом с двумя кувшинчиками, которые летят в Индейскую землю за живой и мертвой водою; то входит в шатер Царь-девицы и спасает ее сонную от злобного Юды…
Таким образом мечтая. Ива Олелькович погружается в глубокий сон, и ему кажется, что он тонет в море и является у подводных хрустальных чертогов водяного дедушки Омута.
Вот все подводное царство дивится невиданному диву, с земного царства пришельцу или мимошельцу Иве Олельковичу: морские богатыри, покрытые с головы до хвоста чешуйчатыми латами, ходят около него, хлопают жабрами, белая рыбица в жемчужной ферязи ластится; вьюн крутится, бьет хвостом о железные доспехи витязя; надутый лещ остановился и поднял гребень от удивления; строи морских раков, латников, вооруженных клешнями огромными, отступают назад и, вытулив очи, хлопают шейками.
Неслыханное плесканье рыб доходит до слуха Омута. Высылает он седого своего думца Кита узнать, что на дне морском деется. Выходит Кит из хрустальных чертогов, дивится на Иву Олельковича и молча возвращается к Царю морскому, доносит ему о появлении в его Царстве зашельца земного, богатыря в чешуе железной.
Взмутился Омут, заклокотал, закипел, запенился. «Призвать, говорит, его ко мне!» Бегут золотоперые придворные звать Иву Олельковича. Морской конь подплывает под него и несет на себе в чертоги Царские; при входе стоят на часах Пила и Меч. Вот Ива видит: на жемчужном престоле сидит водяная глыба; глаза – пузыри; нос – синий смерч; рот – пучина; волосы – водобои; борода – водопад.
– Ну! – говорит Царь Омут. – Незваный гость, земной богатырь-зашелец! Слыхал я, на земле славятся силой и воинской хитростью, – посмотрю я вашего молодечества; дам я тебе под начало море воды, да конной рати, называемой сельдь, две тмы, да пехоты, тяжелых латников-раков, одну тму с полтмою, да иных разных ратных рыб, одну тму с потемками; поведешь ты мою рать на поганого Кощея, который завладел горячим песчаным морем на юге. Возьми ты в полон Кощея, наводни горячее море да насели его рыбою. Сослужишь службу верой и правдою, дам я тебе два ворота сухой воды, что у вас зовут светлым камнем алмазом, да женю тебя на моей возлюбленной дочери Струе; а не сослужишь мне добром, заточу я тебя в мразное море!
Умолк Царь Омут и велел позвать к себе возлюбленную дочь свою.
Течет в светлицу ясная, прозрачная Струя; в жилках искрится радуга семицветная; вместо покрывала облечена она в пену жемчужную; переливаясь по золотому дну подводных чертогов грозного своего родителя, шепчет она сладкие речи на непонятном Иве Олельковичу языке. Катятся вслед за нею волны мамушки и нянюшки и красные сенные девушки; они плещутся, брыжжутся, ударяют в хрустальные стены.
– Возлюбленная дочь моя, Струя! – говорит Царь Омут. – Вот твой суженый: обними его ласково и приветливо!
Струя повинуется, течет прямо к Иве Олельковичу.
Ива Олелькович отступает; но нет спасения: Струя хлынула в его объятия, обдала его… «Ух!» – восклицает Ива и вскакивает; холодный пот катится с лица его. Он осматривает все кругом себя… Нет ни хрустальных палат, ни Омута, ни холодной Струи. Опять темные стены, опять ночник перед иконой, ложе из ржаных снопов и плетеница с хлебом и с солью.
Еще полный дремоты, чувствует он голод; придвигает он к себе плетеницу с пищей; берет круглый опреснок, ложится, кусает, и – новое чудо: хлеб светит как месяц. Ива всматривается… В руках его ущерб лунный; смотрит на небо… оно темнехонько, некому его осветить. Жаль Иве неба; поставлю, думает он, светлый месяц на место.
Вот шарит Ива рукою по небу. Гладко как стекло, не на что повесить месяца.
Опять шарит, ищет, вскакивает с досадой и – стукнулся об небо теменем… Хрустнуло небо, разлетелось вдребезги; звезды посыпались как искры, обожгли его. Ива вскрикивает, приходит в себя и – опять он в темнице, опять ночник теплится перед иконой, опять лежит он поперек одра с опресноком в руках. Не верит Ива Олелькович глазам своим; взял опреснок в обе руки, рассматривает и боится, чтоб опять не укусить светлого месяца.
Как хороша, как сладостна, как радостна мечта! Между жизнью и мечтой есть большое родство, и потому уметь жить и уметь мечтать – две вещи, необходимые для житейского счастья.
Посмотрим на мечты Ивы Олельковича. Его мечтания не в будущем, а в настоящем; это доказывает ум и великую самостоятельную душу, которая не нуждается ни в чем, кроме прошедшего, чтоб создавать настоящее по произволу.
Вот Ива Олелькович любуется мысленно красотою Мирианы Боиборзовны; рассматривает ее с головы до ног; вот вставляет в девственный облик ее голубые очи; примеривает, не лучше ли она будет с черными; расплетает ей русую косу, хлопочет раскладывать по белой груди и по плечам черные струи волосов; то переодевает ее из сарафана в ферязь с длинными до пят рукавами, то, сбрасывая ферязь, накидывает на нее шубку на лисьем меху; то ласкает ее, то дразнит медовиком, то угощает, сыплет ей в полу орешенья и вишенья; то напевает ей песню, то, увлекая ее в хоровод, вскакивает с своего ложа и хочет идти вприсядку… да броня мешает, не гнется; да два луча от ночника кажутся ему руками Кощеевыми, обвивающимися около Мирианы Боиборзовны. Ива бросается на злодея… черепок с горящим елеем перед иконой летит с полицы, разбивается вдребезги… потухающая светильня тлеет на полу и светится, как очи Кощея из-за тридевяти земель… Ива бежит за ними, ударяется лбом в стену своей темницы и, осыпанный молниями, опрокидывается без памяти назад, на землю.
Поганый Кощей!
Но и несчастье сладко, когда человек чувствует собственное презрение к несчастью. Силачу необходимо противосилие, как пища; он счастлив, когда встречает его.
Так и Иве Олельковичу необходима борьба с Кощеем.
Вот Ива Олелькович очувствовался, приходит в себя; все темно, все потухло в очах его; летит черная туча по небу; не видно ни зари, ни дня; упала мгла от неба до земли.
Ива припоминает полученный от Кощея удар в голову, и ему слышится вдали жалобный напев Мирианы Боиборзовны:
Ты пусти меня, пусти, окаянный!
Наберу я былья по долине,
Залечу я другу его рану!..
Как сладко подобное участие!
Скажут, что это мечта… Отчего же у Ивы Олельковича так сладко билось сердце? Отчего память его так искусно мутилась, что в состоянии была обмануть зоркие чувства? Но точно ли это мечта?.. не наваждение Кощеевой нечистой силы? Впрочем, может быть, мечта есть внутренняя наша жизнь? Кому не случалось от мечты быть веселым, от мечты быть печальным, сытым, пьяным, робким, храбрым, влюбленным, быть огнем, льдом, женщиной и мужчиной, всем и ничем!
Таким образом и Ива Олелькович, смотревший не из себя, а в себя, окруженный чудными существами и дивными обстоятельствами, не видел в ежеминутных богатырских трудах и заботах, как прошло много времени, между тем как конюх его Лазарь изныл, истомился, похудел, тоскуя по своем бариче.
Лазарю дана была полная свобода нести богу жалобы: ибо в старину люди жаловались только на собственные свои грехи.
Лазарь был одарен от природы чутьем. В день заключения Ивы Олельковича, спеленанный медвяным хмелем, он очнулся не прежде другого дня; но судьба барича не утаилась от него. В первые минуты отчаяния он залился горькими слезами; потом, не зная, чем помочь горю, он хотел идти молиться Княгине, хотел просить за барича Белогородское Вече, хотел седлать и ехать домой пожалиться Мине Ольговне и поднять мятеж и встань[251] во всем селении Облазне; но пришел час полуденья, гостеприимные Княжеские конюхи позвали Лазаря на губницу и, утешая, поднесли ему хмельной браги. Действие хмеля было благодетельно: он унял порывы отчаяния, отер слезы кулаком, угомонил сердце и вот, к вечеру, на сеннике, в кругу конюших и приспешников Княженецких, Лазарь досказывал уже письменную Сказку, быль про Кощея, слышанную им от звоноря сельского, читавшего оную в книге иерея Симона, глаголемой Гронограф.
– Вот, – говорил Лазарь, – Кощей думает: как извести сына рыбаря с Баричева холма, который по заклятию должен был наследовать его богатство. Придумал, идет под вечер к рыбарю. «Здорово, рыбарь!» – «Здорово, свет Боярин!» – «Много ли рыбы в Исаде? каков лов?» – «Нет лову, Боярин, на рыбу сон, вьюна живого нет!» – «Ой?» – «Право слово, Боярин, кормиться нечем, а бог дает детище!» – «Сын или дочь?» – «Сын, Боярин». – «Дал бы тебе пригоршню пенязей, оже бы ты достал мне на ужин рыбы, поди-ко, авось в садке есть что-нибудь». – «А може, и есть, пойду, пожди мало, Боярин». Рыбарь со двора, а Кощей к хозяйке: «Принеси-ко, молодица, кваску с ледника». Молодая родительница, еще слабая, положила бывшего на руках ее ребенка на постелю, вышла с жбаном на ледник, а Кощей за младенца, да и вон из избы. Выбежал в поле, берегом Днепра, остановился близ устья Почайны, остановился под густым деревом, разрыл снег, бросил в него ребенка, засыпал его… А кто-то скачет по ближней дороге, Кощей от него, а страх за Кощеем. В недре огонь, в членах трепет, в устах жар, прибежал домой. «Дай мне холодного меду!» – говорит он жене. Подает она ему холодного меду. «Тепел! дай льду!» И лед, как раскаленный камень, жжет язык. Гонит прочь от себя и жену и домовинов. Уходит и жена и домовины, но Кощей все не один, вкруг него кто-то все ходит, на потолке стук, под полом возня, по углам шепчут, в трубу гудят… Стоят у Кощея волосы дыбом, обводит он кровавыми очами избу, прислушивается… Вдали плач младенца, над ухом угрозы… Бросается он в пуховую постелю, закутывается одеялом… Что-то холодное ползает по телу, вьется, шипит… Сбрасывает с себя Кощей покров, вскакивает на ноги… ноги ломятся, в очах туман… Грохнулся без памяти о пол.
Проходит ночь. Настало утро. Опамятовался Кощей. «Посмотри, что с ним деется!» – кто-то опять ему шепчет. Встает, боязливо окидывает все взорами… крадется из дому, по улицам, спешит к болонью, к тому месту, где зарыл в снег младенца. Смотрит – на том месте видна только проталинка: поросла густой шелковой травою… трава помята… младенца нет.
Заскрежетал Кощей, рвет на себе волосы; а подле него, за бугром, слышны голоса… прилег к земле, прислушивается.
– Что сказала Лыбедь?
– Нельзя-де теперь: муж дома.
– Окаянный Кощей!
– Велела прийти повечери да стукнуть в боковое оконце.
– Ладно.
– А слышал ли ты диво? Болоньем ехали сегодня, раным-рано, купцы; едут, а подле дороги сидит младенец, как заря румян; кругом снег, а под ним на проталинке зеленая травка, а теплынь, словно в печурке; подивились купцы, да и взяли младенца; привезли в город, а Лыбедь, жена Кощеева, и взяла его вместо родного сына: мне-де бог не дал детища, в чужом шлет утеху старости и наследника…
– Диво!
– Да, диво!
Умолкли прохожие, скрылись.
– Настал мой конечный час! – промолвил Кощей, и повело его тугой, очи закатились, зубы стиснулись, окостенели члены, лежит, как камень могильный. Но вот снова обдало его огнем; опять под сердцем как будто нож врезался. Очнулся и видит: лежит он в черной избе; нет никого, а за стенкой слышно речь ведут:







