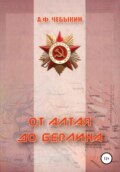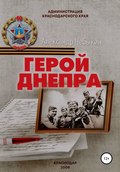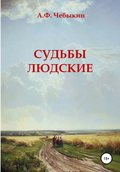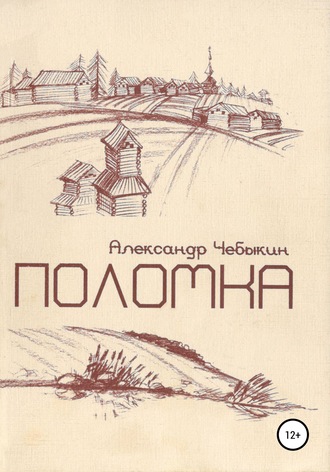
Александр Федорович Чебыкин
Поломка
Через три дня экипаж боевой ракетной установки был в сборе и в сопровождении Вяткина прибыл в подразделение. После расширения плацдарма бригаду бросили на штурм Кенигсберга. Здесь расчету Черемных работенки поднавалило. Сутки без сна и отдыха долбили реактивные снаряды бастионы города, пока не сравняли их с землей.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Весенние воды заполнили пойму Одера и его протоков. Водные преграды достигали ширины 4-6 километров. Перед наступлением наших войск бригада выстроилась на шоссе, идущему параллельно Одеру, напротив города Шведта. На рассвете огневые трассы полетели в сторону противника. Тысячи реактивных снарядов кромсали вражеские укрепления. Тучи земли закрыли горизонт, а артподготовка продолжалась и продолжалась. После огневого вала начался штурм города.
Бригада участвовала во взятии городов Пренцлау, Темплина, а после была переправлена под Штеттином обратно на правый берег. Брали они города Воллин, Свинемгонд, прикрывали высадку войск на остров Узедом. Через пролив Дивеков бригада ракетных установок давала последние залпы в Великой Отечественной войне. Там и застало сержанта Черемных известие о капитуляции Германии. Ликованию не было предела. В конце года сержант Анатолий Черемных был демобилизован.
Учительские будни
Анатолий возвращался домой. Чем ближе он подъезжал к Уралу, тем сильнее его одолевали думы: «Что делать? Как дальше строить свою жизнь? Престарелая мать живет одна…» В Перми встретились со старшим братом, вместе отметили новый год. Решили: матери нужна помощь, да и хозяйство рушить нельзя. Поездом доехал до Сюзьвы, оттуда пешком до дома.
Слух о том, что Анатолий возвращается, долетел в село раньше его. Мать приготовилась к встрече: напекла пирогов, шанежек. Сбежались селяне. Обрадовались: еще один мужик вернулся с войны. Уходили на фронт с каждого дома, а вернулись единицы. Хлопот по дому хватало: старая изба совсем развалилась, окна покосились, косяки сгнили, крыша латаная-перелатаная.
На 23 февраля Анатолий решил сделать вечеринку, как мать и просила: «Толя, такой обычай, его надо соблюдать». Собрались в старом клубе, в своем доме повернуться негде. На встречу пригласил деревенских девчат, многие были переростки: замуж выходить было не за кого. Пришли и подростки четырнадцати пятнадцати лет посмотреть на бывалого старшего сержанта с орденом Красной Звезды и дюжиной медалей на груди. Парни и девчата плясали под балалайку, пели фронтовые песни.
Анатолий обратил внимание на задиристую бойкую девчушку с толстой темной косой, глазами-угольками. Вспомнились проводы в армию. Анатолий подумал: «Не та ли это пигалица, которая провожала меня, и голосок ее тогда звенел громче всех». Подошел к ней, разговорились. Стал расспрашивать: «Как звать, чья, откуда?» Оказалось, что однофамильцы, спросил, не родня ли? Римма ответила: «Нет, не родня, нас Черемных тут по Поломке, Сыну, Сюзьве, Нытве – пруд пруди. Мама моя была учительницей, ее многие знали, рано ушла из жизни, а папа погиб на фронте». Слово за слово, Анатолию показалось, что знает ее очень и очень давно. Изредка стали встречаться. Но он скучал, когда долго не видел ее.
В деревню приехали из районо, стали упрашивать поработать в школе. Учителей в школе не хватало. Преподавали девчушки после окончания 10 класса или старушки, которым педагогическая работа была уже в тягость. В школе работал лишь один мужчина – вел физкультуру. Капитан в отставке, инвалид войны, он никак не мог смириться с потерей своего здоровья и зачастую уходил в запои. Зимой он проводил занятия в классе: пыль, духота.
В марте 1947 года Анатолий согласился поработать преподавателем физкультуры. Занятия стал проводить после уроков в коридоре школы, когда школа пустела, и можно было развернуться. Бросил клич: «Занятия по физкультуре только на лыжах». Сами мастерили себе лыжи. Через два года ученики Мокинской школы завоевали первые места на районных соревнованиях.
Мама Анатолия, как принято в деревне, вела хозяйство: корова, овцы, куры, гуси. За живностью нужен досмотр. Одной управляться стало тяжело. Анатолий весь день напролет пропадал в школе. Мать просила: «Толя, посмотри, сколько девчат бегают в селе. Хочу понянчиться с внуками, пора в дом приводить невесту». Так и порешили. Мать знала, что Анатолий встречается с Риммой Черемных, девчушка ей нравилась, к тому же из хорошей семьи. В июне 1948 года сыграли свадьбу, справили, как положено, с пивом, и хмелевой брагой и одной бутылкой водки. Но жить приходилось в старом завалившемся домике – зимнике. Свой родной дом стоял рядом, отнятый в 30-е годы.
В школе у Анатолия любимыми предметами были география и история. Директор настояла, чтобы Черемных вел еще математику в 7-х классах. В 1948 году по направлению районо он пошел учиться заочно на физико-математический факультет.
Рождались дети: одна за другой девочки. Было нелегко: неустройство с жильем, учеба в педагогическом институте, преподавание по двум предметам. Но великое желание учиться и учить детей заставляло Анатолия выкладываться в полную силу.
В 1953 году Черемных вызвали в Нытву и предложили должность директора. Срок на раздумье дали сутки. Брать на шею это ярмо было страшно, но кто возьмется еще, если не он? Школа не соответствовала никаким требованиям учебы: старое полуразрушенное здание, занятия в две смены. В средние классы приходили дети из шести деревень: Кошелевской, Числовской, Сюзьвинской, Старой Талицкой, Верхне-Северской, Паловской. Ребята из дальних деревень недосыпали, уставали, недоедали. Добираться в школу было тяжело: осенью – непролазная грязь, зимой – бураны, снежные заносы, весной – разливы рек. Успеваемость была низкая. Дети часто болели.
Надо было решить три основные задачи, одна из них – подбор кадров. Но кто согласится поехать учительствовать в позабытое Богом село? Нет жилья, клуба, дорог – и развалюха школа. Вторая задача – создать учебную базу, изготовить хоть какие-то наглядные пособия. Третья – организовать общежитие для учеников.
Надо увольнять нерадивых учителей, а кого вместо них? Ездил в Пермь к студентам пединститута, агитировал их в свою школу. Договорился с областным отделом народного образования о распределении толковых выпускников в Мокинскую школу. Тогда было строго: выпускник вуза должен был три года отработать по распределению, но при условии обеспечения его квартирой.
Анатолий Максимович мерял шагами село из конца в конец, упрашивая хозяев, чтобы пустили на квартиру. С плотником школы ремонтировал крыши, менял рамы, вставлял стекла. Потребовал от учителей, чтобы без наглядных пособий на занятия не приходили, делали их сами или при помощи учеников. Дети соглашались с охотой. Мастерили, пилили, строгали, клеили, красили. Пусть не заводские изделия, но своими руками сделанные.
В 1954 году детсад съехал из отцовского дома, который числился на балансе колхоза. Черемных Анатолию Максимовичу, как директору школы, по закону была положена квартира, и он, наконец, переехал в отчий дом. В селе находились такие люди, которые писали кляузы о том, что кулацкого сына незаконно поселили в своем доме. Только в 1959 году сельсовет выкупил дом у колхоза, и, чтобы избежать всяких кривотолков, Анатолий приобрел его у сельсовета за небольшую сумму. За столетие дом поизносился, пришлось его капитально ремонтировать. Времени не хватало, с утра до позднего вечера – в школе, ночью выполнение контрольных работ студента Пермского пединститута.
В 1956 году районо принял решение перевезти здание запольской начальной школы в Мокино. Снова Анатолий трудился и рабочим, и мастеровым. Через год школа была готова. Условия для учебы улучшились, но классов для проведения занятий в одну смену не хватало. Нашли здание под интернат, отремонтировали его. В одно помещение определили мальчиков, в другое – девочек. С помощью сельсовета удалось построить для учителей первый двухквартирный дом, за ним другой. В село потянулись преподаватели. Можно было комплектовать кадры, появился выбор.
С постройкой новой школы немного разгрузились, но успеваемость была низкая, особенно среди учеников, которые жили в общежитии, почти все свободное время у них уходило на приготовление пищи. Директор решил: нужен настоящий интернат, где дети могли бы питаться. Под интернат удалось перевезти талицкую школу. Началось строительство. Черемных сам составил проект комплекса интерната. Трудностей было не перечесть: не хватало материалов, часть их растаскивалась, рабочие шли неохотно на низкооплачиваемую работу, денег выделялось недостаточно. Здоровье у Анатолия пошатнулось, нервы были на пределе.
Невероятных усилий стоило Черемных построить и организовать дом-интернат при школе. Были созданы нормальные условия проживания: водяное отопление, водоснабжение, спальни, комнаты для занятий, радиоузел. У каждого воспитанника – домашние тапочки. Построили баню-прачечную. Вокруг разбили яблоневый сад.
Учебно-воспитательная работа проводилась с ориентацией на сельское хозяйство. Для этого нужно было создавать материально-техническую базу. Директор школы, совместно с Ощепковым Василием Андреевичем, энтузиастом этого дела, шаг за шагом оборудовали столярные и механические мастерские станками с комплектом слесарного, токарного, плотницкого инструмента. Секретарь обкома Р. Вагин побывал в мастерских и сказал, что даже в профучилищах Перми нет такой сильной материальной базы. Одновременно при школе, по совету учителя григорьевской школы Федора Ивановича Мосина, был создан учебно-опытный участок, на котором школьники посадили аллею лип, дубов, кедров. Много своего труда в это вложила молодая учительница Л.Н. Петрова. Был оборудован стадион, на котором имелись шведская стенка, шест, канат, турник, яма для прыжков, городошная, волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для метания ядра, беговые дорожки, полоса препятствий, подземный тир. В этом тире проводились районные соревнования по стрельбе.
Много сил приложили для создания кабинетов биологии, химии, географии, математики, русского языка и литературы, истории, иностранных языков, физики. Приборы и приспособления делали своими руками. Кабинет физики при Мокинской школе стал базовым для практики студентов Пермского пединститута. Создание такой учебной базы позволило безболезненно перейти в 1962 году на восьмилетнее обучение. Успеваемость по школе поднялась до 99%. Областной и районный отделы народного образования стали при школе проводить семинары для учителей, методические занятия. Возникла необходимость решить еще одну очень сложную проблему: перевести школу с печного отопления на водяное.
В 1976 году Черемных Анатолий Максимович был награжден нагрудным значком «Отличник просвещения СССР». Материально-техническая база школы позволила на высоком профессиональном уровне заняться трудовым и военно-патриотическим воспитанием. В 1959/60-м учебном году школьники вырастили сто пятьдесят шесть телят с хорошим суточным привесом, 7,5 тысяч кур, 4,5 тысячи уток. Посадили более двухсот деревьев. Ежегодно школа направляла в сельхозучебные заведения (ПТУ, техникумы, ВУЗы) не менее 75% выпускников, которые возвращались дипломированными специалистами в родные колхозы. После окончания вузов снова пришли в родную школу Долгих Римма Григорьевна и Чиркова (Лыкова) Валентина Яковлевна – это они вместе с Анатолием Максимовичем сделали школу лучшей в районе. Они поддерживали переписку с командованием воинских частей, в которых проходили службу выпускники школы, организовывали поездки школьников в воинские части, проводили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, принимали участие в игра «Зарница», возили ребят на экскурсии по области, ходили в походы по родным местам, рекам Поломке, Сюзьве, Нытве. В этих мероприятиях активное участие принимал постоянный член педсовета школы Герой Советского Союза Пономарев Михаил Петрович. По многим вопросам Анатолий Максимович советовался о своим другом-фронтовиком, директором чайковской школы Игнатьевым Иваном Григорьевичем. На стенде в райвоенкомате «Так служат наши земляки» из двенадцати фотографий – восемь фотографий выпускников Мокинской школы. Эти успехи были достигнуты благодаря учительскому коллективу, увлеченному делом обновления школы. Его дочери окончили Пермский институт и, как положено, отработали по три года в родной школе.
В 1967 году Анатолий Максимович в возрасте сорока пяти лет окончил пединститут. С 1978 года школа перешла на одиннадцатилетнее обучение. Осталась нерешенной проблема занятий в две смены. В стране проходила реформа образования: изменялись учебные программы, повышались требования к учителям. Министерство образования постановило, чтобы все учителя, кроме педагогов младших классов, обязательно имели высшее образование. У большинства были дипломы об окончании учительских курсов. Старые учителя, имея огромный, более тридцати лет, опыт работы, были вынуждены уходить на пенсию. Трудно им было расставаться с коллективом, учениками, ломать привычный образ жизни, чувствуя свою необходимость. Анатолий Максимович выслушал немало упреков и насмотрелся человеческих слез, но жизнь требовала обновления учительских кадров. Надо было двигаться вперед.
В 1980 году был заложен фундамент новой школы. Утро директор начинал с осмотра стройки и день заканчивал там же. После смерти Л. Брежнева строительство застопорилось, возобновилось только в 1985 году. Тридцать два года пробыл Анатолий Максимович директором школы (с 1953 по 1985 годы). В течение этих лет рядом с ним была его надежда и любовь – Римма Григорьевна, на плечи которой легло воспитание трех дочерей, а также ответственная работа секретаря сельсовета, человека, к которому стекалась информация за день из нескольких деревень, боль и надежды людей.
Анатолий Максимович чувствовал, что одолевают фронтовые контузии, подбирается старость. Чтобы продолжить дело, нужен новый молодой энергичный директор. Подошло время прощаться. Сорок четыре года в школе, сорок выпускных классов. Он строил эту школу, оборудовал кабинеты, спортплощадки, сажал деревья, знал в лицо каждого ученика. Помнил каждый забитый гвоздь, скрип половиц в классах.
Долго обсуждали с Риммой Григорьевной и, наконец, решили: «Всему есть начало и конец, их дело продолжит новое поколение учителей». В 1985 году, после выпускных экзаменов, подал заявление об освобождении от обязанностей директора школы по возрасту и фронтовым контузиям, но со своей школой расстаться не мог, еще два года преподавал математику.
Анатолий Максимович, кроме школьных дел, вел постоянную общественную работу во благо села и района. Был постоянным членом парткома совхоза, сельсовета. Возглавлял районное общество «Знание», избирался депутатом районного Совета. Вместе с супругой более двадцати лет выступал в художественной самодеятельности села. В своей жизни Анатолий Максимович всегда занимал активную позицию – не стоял в стороне от любых проблем. Его душа болела и болеет до сих пор за родную школу, Мокино, весь район.
«Учительские будни»
Ветерану войны и труда
Черемных Анатолию Максимовичу
Проутюжила, прокатила война
вкривь и вкось.
На Востоке с альбатросами
был дружен он,
А на Западе
подружиться с «Катюшей» пришлось.
Сколько верст сапогами промеряно
По земле – и своей, и чужой!
Сколько верных друзей порастеряно
В проклятой войне мировой.
Сколько раз косяки журавлиные
Приносили на крыльях тепло,
Но дороги военные, длинные
Обходили родное село.
***
Сколько лет ты и правдой, и верою…
Этот день выше всяких наград:
К заколоченным окнам фанерою
В отчий дом возвратился солдат.
Сиротливо избушки вдоль Мокино
Просели, да в землю вросли,
Лишь заметно березки под окнами
Заневестились, в силу вошли.
Возвращения радость звонкая
Не под каждую крышу пришлась.
Плачут окна села похоронками,
Горе кровью в сердцах запеклось.
Велика мать Россия, но дорог
Этот край и родимый порог,
Дом, в котором родиться и вырасти
До семнадцати лет довелось.
Дом, где мама ловила порою
Каждый шорох ночной и шаги,
Да молила: «Счастливой дорогою
Возвратиться сынку помоги».
Ты, учитель, наставник, директор
Депутат, агитатор и лектор, и…
Конечно, душа человек.
Пусть крылечко с крутыми ступеньками
Будет круче с годами, длинней.
Не грусти, ветеран, что на пенсии,
Выше голову, спину прямей.
Ты гордился, что вместе с эпохою
Тоже в общем протопал строю,
И, как мог – хорошо ли то, плохо ли
Выпил полную чашу свою.
И. Игнатьев
Возрождение
Знакомясь с директором хозяйства «Мокинское» Любовью Владимировной Негановой, этой миловидной женщиной с мальчишеской прической и лучезарными глазами, удивляешься ее силе духа, настойчивости, целеустремленности, требовательности и человеколюбию. Именно ей удалось поставить на ноги совхоз, имевший не так давно многомиллионные долги.
Когда в 1997 году рабочие совхоза на собрании обратились к Любови Негановой с просьбой возглавить хозяйство, она долго думала. Восстанавливать разрушенное всегда тяжелее, чем создавать новое. Руки не лежали к разоренной земле. Но сердце говорило, что если не она, то кто же еще?
И уже через год ООО «Мокинское» получило статус племенного хозяйства и стало продавать породистых хрюшек по всему Прикамью. На вырученные деньги соорудили новую котельную, построили водонапорную башню, отремонтировали свинарники, расширили посевы зерновых. С каждым новым днем замыслы Любовь Владимировны воплощались в жизнь. Начали производить комбикорма, развивать молочное животноводство, расширять инфраструктуру – все это позволило некогда умирающее хозяйство вывести в число передовых, оно стало получать высокие награды на областных выставках. Но главной наградой для самой Негановой стали доверие и вера в своего директора, простых тружеников.
Любовь Владимировна уверенна, что не достигло бы хозяйство таких успехов без поддержки людей, среди них и заведующая свинофермой Вера Вишнякова, и управляющий отделением Алексей Одинцов, и механизаторы Виктор Безматерных, Андрей Черемных, и доярка Екатерина Первухина.
Село ожило. Жизнь стала налаживаться. При клубе заработали кружки. Возобновилась самодеятельность. Если молодежь и старушки запели – значит, возрождается село. А самое главное – молодежь стала возвращаться в деревню.
Значит, возрождается и Поломка. Но до былой славы совхоза еще очень далеко. Легко разрушать, а построить новое или вдохнуть жизнь в старое гораздо труднее.
Иван Игнатьев
Матушка Пермь – это не только Поломка, но и Сива, Сюзьва, Нытва. Эта земля, ее люди, леса, косогоры воспеты в стихах Ивана Игнатьева.
Дружбе Ивана Игнатьева и Анатолия Черемных более пяти-десяти лет. Началась она, когда Иван прибыл директорствовать в неполную среднюю школу на станцию Чайковскую, и с тех пор крепнет год от года. Сейчас, когда оба на пенсии, им есть, о чем поговорить, они вспоминают фронтовые дни и годы работы в школе.
Иван худощав, ростом выше среднего, светловолос, хотя это больше от седины. Его серые с искоркой глаза всегда внимательно рассматривают собеседника. Сжатые губы и крепкий подбородок говорят о нем, как о человеке сильной воли. Высокий лоб напоминает о незаурядном уме. В разговоре эмоционален. Хотя и старик, но подвижен и, как говорят, быстр на подъем.
Братья Сергей и Иван родились в деревне Козловка. Когда Ивану было восемь, а Сереже одиннадцать, они остались сиротами. Благо нашлись добрые люди в соседних деревнях. Ивана забрала семья Игнатьевых из деревни Харино. Небольшая деревушка Харино стала его вторым домом.
Новые родители отнеслись к нему как к родному, дали свою фамилию и новое отчество. В восемь лет, как и его сверстники, он побежал за шесть километров в начальную школу в деревню Жернаково. В первом классе пол-зимы проболел, на другой год пошел снова в первый класс. По отношению к первоклассникам был уже переростком. Добился, чтобы его перевели во второй класс. Он старался быстрее наверстать упущенное и обошел в знаниях многих сверстников. До окончания начальной школы ходил в отличниках.
После Жернаковской школы пошел доучиваться в неполную среднюю школу поселка Кизьва, расположенного на реке Обва. От Харино до Кизьвы расстояние пятнадцать километров. В котомке за спиной груз набирался до пуда: пара караваев хлеба, ведро картошки в рогожке, несколько кусочков мяса. И это надо было тащить подростку, боясь, что за каждым пеньком подкарауливает волк, по заваленной снегом дороге в сорокаградусный мороз, от которого лопались деревья, коченели пальцы рук и ног, нос превращался в льдинку. Чтобы не опоздать в школу, приходилось выходить из дома в полночь или мыкаться по квартирам.
Иван успешно закончил семь классов. В восьмой надо было идти в среднюю школу районного центра, в село Сива. Не успел определиться, куда идти учиться, как над страной нависла опасность. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Страна стала единым военным лагерем. Ивана повесткой направили в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) города Кизел для освоения шахтерской профессии. Полуголодное питание, закопченный город, полутемные подземные выработки угнетали Ивана. Ему вспоминались старенькие приемные родители, двор полный живности, просторы полей, красота реки Обвы, вечеринки в школе. С фронта приходили тревожные вести – враг рвался к Сталинграду. По вечерам в общежитии разговоры шли только о положении дел на фронте.
Каждый рассказывал, как воюет его отец, брат, дядя. Иван Игнатьев уговорил ребят, которые были из соседних деревень сбежать из шахтерского городка на фронт. Решили добраться до дома, сменить ФЗО-шную форму, набрать дома еды на дорогу и отправиться под Сталинград.
Только переночевал ночку дома, как утром пришел милиционер с председателем колхоза. Из Кизела в район пришла телеграмма, что ФЗО-шники покинули училище. Председатель долго уговаривал милиционера, чтобы не забирали Ивана, он доказывал, что в деревне не осталось мужиков – некому косу отбить, серпы насечь, лошадь подковать, на жнейку посадить. Позвонил в сельсовет, оттуда в район. Разрешили оставить в колхозе до особого распоряжения. В деревне работы непочатый край: днем в поле, вечером на току. Проработал лето и зиму.
Весной 1943 года пришла повестка из райвоенкомата. Отправили в пехотное командное училище, где он проучился четыре месяца. Строжайшая дисциплина военного времени. Недоедание, недосыпание. Тяжелейшие нагрузки учебы и тренировок. Никак не мог научиться наматывать на голень длинные ленты обмоток. После нескольких шагов они сползали и распускались. От неумения сладить с ними Иван вечерами, дрожа от холода, втихую плакал под одеялом. Спали в бараках, отапливаемых печкой-буржуйкой, сделанной из железной бочки. Командование видело, что у парня нет командирских навыков. Решили, что пусть будет хорошо подготовленный солдат, чем неумелый командир. Перед отправкой на фронт присвоили звание сержанта. Это значит, что отделение ему доверить можно, но взвод еще рано, потому, что мало соплей на локоть намотал. Ехал на фронт и радовался. Кругом благоухало лето. Из раскрытых дверей теплушки виднелись бескрайние просторы полей.
По прибытии в часть с первого же дня попал в круговорот событий. После прорыва немецкой обороны в районе Орла наши войска понесли большие потери. Дивизия, в которой проходил службу Иван, была выведена из боя на переформирование. Всего три дня ушло на пополнение живой силой и техникой. Войска быстро продвигались на Запад. В прорыв надо было вводить новые части.
В первый же день сержанту Игнатьеву поручили командовать стрелковым отделением. Когда увидел перед собой строй из десяти человек, у него потемнело в глазах. Перед ним стояли и убеленные сединой усачи, те самые солдаты, которые шли из-под Сталинграда, и четверо совсем молоденьких солдатиков. Иван подумал, куда ему с этими пионерами, наверное, с тремя-четырьмя классами образования, которым война не дала возможности доучиться, неужели, и он такой же недотепа. В отделении оказалось также двое пожилых солдат-друзей, воевавших вместе еще с начала войны.
Август 1943 года был жарким. Пот заливал глаза, автомат был по спине. Сапоги оказались малы – натирали ноги, примеряя, из-за бахвальства, взял на размер меньше. На привале снял их, поставил у края кювета и пошагал по дороге в толстых шерстяных, маминой вязки, носках. Увидел старшина роты и пригрозил Ивану кулаком. Где-то раздобыл старые стоптанные сапоги с дырками на сгибах. Иван обрадовался. В них было по-домашнему уютно и просторно, а через дырки они хорошо проветривались. К вечеру дошли до передовой, заняли жиденькие окопы, рывшиеся на скорую руку и с думкой побыстрее их оставить. Для пополнения боезапаса им выдали по два автоматных диска и гранате. Предупредили – утром наступление. Иван уселся в заброшенный окоп, укрылся плащ-палаткой.
Попробовал закурить, не пропадать же выданной пачке махорки, но после двух-трех затяжек раскашлялся. Подошел один из двух старых вояк Иван Моторин и проговорил: «Товарищ сержант, не получается и не надо этим зельем баловаться, я вот с детства смолю, сколько раз хотел бросить, да не получается. Жена злилась, когда накурюсь – отправляла спать в сени. Из-за этого табака очень много я не долюбил. Если не жаль, подари табачок нам с другом. Мы знаем, как с ним разделаться». Иван с радостью протянул пачку махорки. Служивый посоветовал: «Вы, товарищ сержант, в бою еще не были. Особо не волнуйтесь, командир роты у нас опытный, со Сталинграда в боях с ним мыкаемся. Вы только не суетитесь, мы молоденьких солдат берем на свое попеченье, а те, что постарше, так они еще в германскую на брюхе достаточно поползали. Вы не стесняйтесь пулям кланяться, к земле-матушке почаще припадайте, долго не залеживайтесь, кошкой вспрыгиваете из окопа и от своих не отставайте». Подошел командир взвода – молоденький младший лейтенант, видимо, тоже из скороиспеченных, но уже воевавший третью неделю на Курской дуге, сначала в обороне, а после в наступлении. Его рыжеватые волосы, слипшись от пота, торчали хвостиком из-под пилотки, курносый нос облупился на солнце, серые глаза смотрели приветливо. Лейтенант, как мог, рассказал о завтрашнем бое. Предупредил: «Наша задача после короткой артподготовки захватить лощину рядом с высотой «231», выбить с нее немцев и дать возможность другим подразделениям продвинуться вперед. Высота сильно укреплена, и в лоб ее не взять. После сигнала красной ракетой наблюдать за мной, не отставать и слушать мои команды».
В Иване нарастало напряжение. Он думал, что завтра даст немцам по первое число, отомстит за дядю Никифора, соседа Егора и учителя Николая Семеновича. Долго не мог уснуть, а потом как в омут провалился. Ему приснилось, что какой-то верзила бьет его по щекам, приговаривая: «Вперед, вперед, смотри!» Когда проснулся, то увидел, как в утреннем тумане из окопа выскакивали солдаты его отделения и что-то кричали. Моторин тащил его наверх за руку. Иван испугался: как же так, его отделение впереди, а он дрыхнет в окопе? Схватил автомат и запасные диски, оставив вещмешок, плащ-палатку и гранаты. Помчался, обгоняя солдат своего отделения. Догнал командира взвода. Начался подъем, бежать стало тяжело. Туман рассеивался. Справа и слева стали взрываться мины. Иван наблюдал, как командир взвода то припадал к земле, то вспрыгивал и мчался вперед. Друзья, два старых солдата, бежали, падали, лежали несколько секунд, как будто что-то вычисляли, вскакивали, отпрыгивали в сторону и снова – на брюхо. Оба двигались вплотную друг к другу. Кто-то вскрикнул. Иван кинулся назад, но командир взвода прикрикнул: «Сержант, вперед! Там сзади санитары подберут, а твое дело вперед и вперед. Когда подбежали к лощине, взрывы мин остались где-то позади, но впереди, как частые крупные капли дождя, летели пули, поднимались фонтанчики земли. Солдаты залегли. Подполз, задыхаясь, Иван Моторин и сказал: «Товарищ сержант, послушайте меня, у нас с другом нет сил бежать. Вы с молодыми прорывайтесь броском через огонь к окопам, а мы вас прикроем. Я хорошо сориентировался и кумекаю откуда фашисты поливают огнем. Прихватите пару гранат и забросайте ими окопы, автоматным огнем немцев с этого расстояния не возьмешь. А в окопе, в ближнем бою из автомата их». Иван ответил: «Добро, но у меня нет гранат – в окопе оставил». – «Возьмите наши». Командир взвода заматерился и закричал: «За Родину! За Сталина!» Поднялся и рванулся вперед, за ним побежали солдаты взвода. Пули свистели у ушей, били по голенищам сапог. Иван бежал и короткими очередями постреливал из автомата. Заметил, как упал командир взвода. Он подбежал и увидел: из обеих ног выше колен били фонтаны крови. Взводный прохрипел: «Командуй Игнатьев: вперед! Забрасывай немцев гранатами!» Иван вспомнил наказ старого солдата и одну за другой бросил гранаты впереди себя, с ходу заскочил в окоп, стреляя из автомата вправо и влево. Десятки гранат полетели в немецкие окопы и послышалось громкое, какое-то дикое и душераздирающее: «А-а-а-а!» Игнатьев легко выскочил из окопа, вскинул для стрельбы автомат, но очереди не последовало. В бою расстрелял оба диска. Расстроился. В голове билась одна мысль: «Командуй, сержант!» Иван схватил брошенный немецкий автомат и побежал вперед. «Увидел, как какие-то незнакомые солдаты опережали его. Догнал командир роты и потребовал: «Сержант, останови своих солдат, мы свою задачу выполнили, лощина в наших руках».
Иван стал звать пофамильно солдат своего отделения, солдат других отделений он не знал и лица их плохо помнил: вместе были всего неделю. Солдаты стали собираться вокруг ротного. Ротный, высокий мужик, видимо, кадровый военный, подтянутый, с впалыми щеками, слезящимися от недосыпания глазами, обратился к Ивану: «Ну что, Игнатьев, поздравляю с новой должностью командира взвода». Иван ответил: «Категорически отказываюсь, разрешите пару недель остаться командиром отделения согласно званию – сержант. Более на эту должность подходит солдат Моторин Иван Кириллович».
– Вижу, вы за короткое время успели изучить своих людей.
– Опыта и смекалки у него поболее, чем у меня.
– Согласен с вами. Моторин, принимайте взвод!
Батальон, в который входило отделение Ивана Игнатьева, выполнил поставленную задачу: очистил от немцев лощину – а другие батальоны, которые наносили отвлекающий удар по высоте, были переброшены и втягивались в лощину, обходя высоту с тыла. Огонь с высоты прекратился, немцы поняли безысходность своего положения и отходили на новые рубежи.
Новый командир взвода быстро сориентировался в обстановке, построил взвод, поблагодарил оставшихся в живых солдат за смелость и смекалку, хотя для большинства солдат это был первый бой. Игнатьев недосчитался трех человек и трое было ранено, перебинтованные, они, держась друг за друга, стояли перед ним. Двоих отправили на перевязочный пункт, а друг Ивана Моторина, узколобый татарин, с глазами на выкате, с вислыми усами, с перевязанным лицом до глаз, размахивал руками и категорически отказывался идти в медсанбат. Пуля выбила ему передние зубы, рассекла язык и вышла через щеку. Иван Моторин все-таки уговорил друга пойти на перевязочный пункт. Командир батальона обещал, после того, как тот немного поправится, его заберут из лазарета.