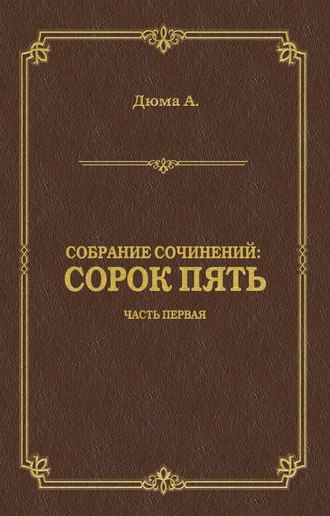
Александр Дюма
Сорок пять. Часть первая
– Этого еще мало, что вы проедете. Надо, чтобы он вас увидел.
– Будьте спокойны: раз я перешагну за эти ворота – он меня увидит.
– Не забудьте условного знака.
– Два пальца к губам, не правда ли?
– Да… А теперь – помоги вам Бог!
– Ну что же, – поторопил обладатель вороного коня, – скоро ли вы решитесь, господин паж?
– Вот я, хозяин! – И юноша легко вскочил на лошадь позади де Карменжа.
Тот немедленно присоединился к пятерым, уже занятым предъявлением карточек и отстаиванием законности своих прав.
«Э-э! – сказал себе Робер Брике, все время следивший за ними глазами. – Да это целый съезд гасконцев!.. Чтоб меня черт побрал, если я ошибаюсь!»
III
Смотр
Контроль в отношении тех шести лиц, которые выступили из толпы и приблизились к воротам, не был ни особенно строг, ни особенно продолжителен. Все дело заключалось в предъявлении офицеру половинки карточки: приложенная к другой половине, она должна составить с ней целое – большего не требовалось для установления прав подателя.
Первым подошел гасконец с непокрытой головой.
– Ваше имя? – задал ему вопрос офицер.
– Мое имя, господин офицер? Оно написано на этой карточке, где вы найдете и еще кое-что.
– Это меня не касается. Ваше имя? Или вы его не знаете?
– Как не знать, очень знаю… А если б даже и забыл, то вы, как земляк и родственник, могли бы мне напомнить.
– Ваше имя, тысячу чертей! Разве есть у меня время признавать каждого?
– Хорошо, хорошо… Меня зовут Перд де Пенкорне.
– Пердукас де Пенкорне, – повторил господин де Луаньяк (с этой минуты мы будем называть его так – по примеру его земляка).
– «Пердукас де Пенкорне, – прочитал он на карточке. – Двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня».
– «Ворота Сент-Антуан», – добавил гасконец, прикоснувшись к карточке своим черным худым пальцем.
– Прекрасно, все в порядке, проходите. – Луаньяк желал положить конец всякой дальнейшей беседе с ним земляка. – Ваша очередь, – обратился он ко второму.
К офицеру подошел гасконец в кирасе.
– Ваш пропуск?
– Как, господин Луаньяк?! – воскликнул тот. – Неужели вы не узнаете сына одного из ваших друзей детства, – вы столько раз держали меня на коленях?
– Нет.
– Я Пертинакс де Монкрабо, – произнес в полном изумлении молодой человек. – Вы меня не узнаете?
– Когда я при исполнении служебных обязанностей, то не узнаю никого, милостивый государь. Ваша карточка?
Молодой человек в кирасе протянул ему пропуск.
– «Пертинакс де Монкрабо. Двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Проходите.
Теперь очередь была за третьим гасконцем, с ребенком на руках и с женой.
– Ваша карточка?
Рука гасконца послушно опустилась в кожаную сумку, висевшую у него через правое плечо, но ничего там не нашла: движения его были стеснены ребенком, которого он держал на руках, и ему не удавалось отыскать требуемую бумагу.
– Зачем вы носитесь с ребенком? Видите ведь, что он вам мешает?
– Это мой сын, господин де Луаньяк.
– Ну так спустите на землю вашего сына.
Гасконец повиновался; ребенок заревел.
– Вы, значит, женаты? – уточнил Луаньяк.
– Женат, господин офицер.
– Двадцати лет от роду?
– У нас все рано женятся, господин Луаньяк… Вам ли этого не знать – вы сами женились в восемнадцать лет.
– Так… И этот меня знает!
В эту минуту к ним подошла женщина, за которой тащились двое детей, держась за ее юбку.
– А почему бы ему и не быть женатым? – Она откинула со лба прилипшие к нему густые пряди черных запыленных волос. – Или в Париже больше не в моде жениться? Да, милостивый государь, он женат, и вот еще двое детей, называющих его отцом.
– Да, но они не мои дети, а моей жены, господин Луаньяк, как и этот великовозрастный малый, стоящий за ними. Подойди, Милитор, и поклонись нашему соотечественнику господину де Луаньяку.
Рослый, коренастый, юркий юноша лет семнадцати, сильно смахивавший на коршуна своими круглыми глазами и крючковатым носом, нехотя подошел, держа обе руки за кожаным поясом. На нем была вязаная куртка и замшевые панталоны. Пробивавшиеся усики темнели над его губами, чувственными и наглыми.
– Это Милитор, мой пасынок, старший сын моей жены, по первому мужу Шавантрад, родственницы Луаньяков. Кланяйся же, Милитор! А ты замолчи, Сципион, замолчи, крошка! – увещевал он малыша, шаря по всем карманам и нагибаясь к ребенку, с ревом катавшемуся по песку.
Тем временем, повинуясь приказу отца, Милитор небрежно поклонился, не вынимая рук из-за кожаного пояса.
– Бога ради, ваш пропуск! – воскликнул, теряя терпение, Луаньяк.
– Подите сюда и помогите мне, Лардиль, – обратился к жене гасконец, весь красный от смущения.
Лардиль отцепила от юбки ухватившиеся за нее детские ручонки и принялась в свою очередь рыться в карманах и сумке мужа.
– Нет нигде! – наконец доложила она. – Мы, должно быть, потеряли ее!
– В таком случае я велю вас задержать, – заявил Луаньяк.
Гасконец побледнел:
– Меня зовут Эсташ Мираду. За меня может поручиться родственник мой, Сент-Малин.
– Вы родственник Сент-Малина? – Луаньяк несколько смягчился. – Впрочем, послушай только вас – вы окажетесь в родстве с целым миром. Ищите лучше хорошенько, да старайтесь, чтобы ваши поиски увенчались успехом.
– Посмотри, Лардиль, в детских вещах, – пробормотал Эсташ, дрожа от страха и стыда.
Лардиль опустилась на колени и принялась перебирать небольшой узелок с немудреным детским платьем. Между тем малолетний Сципион, предоставленный самому себе, продолжал орать во все горло, а его братья, видя, что никто не обращает на них внимания, развлекались тем, что набивали ему рот песком. Один Милитор стоял истуканом, словно все семейные невзгоды его не касались.
– Ба!.. – воскликнул вдруг Луаньяк. – Что это я там вижу, за рукавом этого долговязого малого, в кожаном конверте?
– Да, да, это она! – возликовал Эсташ. – Я теперь вспомнил: это Лардиль придумала пришить карточку к рукаву Милитора.
– Чтоб и он что-нибудь нес, – заметил насмешливо Луаньяк. – Фу, большой теленок – и руки-то не может опустить: боится, придется их нести.
Губы Милитора посинели от злости, а на носу, подбородке и бровях выступили красные пятна.
– У теленка рук нет, – метнув злобный взгляд, пробормотал он сквозь зубы, – хоть он и животное. Да и кое-кто из людей – тоже.
– Ну, ты, потише! – урезонил его Эсташ. – Не видишь разве: господин Луаньяк делает нам честь – шутит с нами.
– Нет, черт возьми! Вовсе я не шучу! – возразил Луаньяк. – Напротив, пусть этот шалопай примет мои слова всерьез. Будь он моим пасынком – заставил бы его нести мать, братьев, узлы и сам вскарабкался бы поверх всего. Как раз удобно потянуть его за уши, чтоб доказать, что он осел!
Милитор совершенно растерялся; Эсташ же хотя и имел встревоженный вид, но под этой тревогой проглядывала затаенная радость, что пасынок претерпел такое унижение. Лардиль, желая разом предотвратить всякие осложнения и избавить своего первенца от язвительных насмешек Луаньяка, поспешила подать ему карточку. Тот взял и громко прочел:
– «Эсташ Мираду, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Проходите, – добавил он, – и оглянитесь, не забыли ли кого из ваших отпрысков.
Эсташ Мираду снова взял на руки Сципиона, Лардиль по-прежнему ухватилась за пояс мужа, дети уцепились за юбку матери, и вся семья с замыкавшим шествие Милитором присоединилась к миновавшим уже контроль гасконцам.
– Ну и войско набрал себе господин д’Эпернон[9]! – пробормотал сквозь зубы Луаньяк, глядя на дефилировавшего мимо него Эсташа де Мираду с семейством. – Чья очередь? Подходите! – обернулся он к ожидавшим.
Очередь была за четвертым; он приблизился один, держась очень прямо и щелчками стряхивая пыль с темно-серого камзола. Щетинистые усы, зеленые блестящие глаза, густые брови, дугой резко выделявшиеся на скуластом лице, наконец, тонкие сжатые губы – все это придавало ему выражение недоверчивое и замкнутое, по которому нетрудно узнать человека, так же тщательно скрывавшего содержимое кошелька, как и тайники сердца.
– «Шалабр, двадцать шестого октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан». Хорошо, проходите.
– Дорожные расходы будут, я полагаю, возмещены? – коротко осведомился гасконец.
– Я еще не казначей, сударь, а пока привратник, – сухо ответил Луаньяк. – Проходите.
За Шалабром последовал белокурый молодой человек. Доставая пропуск, он выронил из кармана кости и колоду игральных карт. Сказал, что его зовут Сент-Капотель, и так как заявление это подтверждалось карточкой, то вскоре присоединился к Шалабру.
Оставался шестой, и последний; следуя указанию своего самозваного пажа, он сошел с коня и предъявил карточку, на которой стояло: «Эрнотон де Карменж. Двадцать шестое октября тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, ровно в двенадцать часов дня. Ворота Сент-Антуан».
Пока господин де Луаньяк читал карточку, паж – он тоже сошел на землю – все старался скрыть лицо, низко пригнув голову и поправляя для виду упряжь.
– Это ваш паж? – указал на него Луаньяк.
– Сами видите, капитан, – Эрнотон не желал ни лгать, ни обмануть доверие незнакомого юноши, – он взнуздывает мою лошадь.
– Проходите, – Луаньяк внимательно всматривался в господина де Карменжа: наружность его и осанка, казалось, пришлись ему более по вкусу, чем у всех остальных. – Этот, по крайней мере, хоть сносен, – пробормотал он.
Эрнотон сел на лошадь; паж меж тем уже опередил его, без излишней, впрочем, торопливости и с самым непринужденным видом, и уже смешался с гасконцами, стоявшими поодаль.
– Отворить ворота! – скомандовал Луаньяк. – Пропустить этих шестерых и сопровождающих их слуг!
– Скорей, скорей! – поторопил паж. – В седло – и едем!
Эрнотон еще раз невольно уступил этому странному юноше: как только ворота открылись, он пришпорил коня и поскакал, следуя за пажом, в самый центр квартала Сент-Антуан.
Как только шестеро счастливцев прошли в ворота, Луаньяк приказал снова закрыть их, к величайшему неудовольствию толпы: все надеялись, что по завершении формальностей их впустят, и теперь, обманутые в своих ожиданиях, шумно выражали неодобрение.
Господин Митон, в смертельном испуге убежавший далеко в поле, мало-помалу набрался храбрости и осторожно вернулся на прежнее место; мало того, рискнул даже высказаться по поводу произвола солдат, лишающих народ свободы передвижения.
Фриар, отыскавший наконец жену и чувствовавший себя, видимо, в полной безопасности под ее защитой, передавал своей достойной половине дневные новости, существенно дополненные личными комментариями.
Тем временем группа всадников – одного из них паж назвал Мейнвилем – держала совет: не обогнуть ли городскую стену в надежде (и небезосновательной) набрести на какую-нибудь брешь и войти через нее в Париж, не подвергаясь дальнейшей задержке у городских ворот – этих ли, других ли?
Робер Брике, как все анализирующий философ и ученый, из всего извлекающий квинтэссенцию, вскоре сообразил, что развязка только что описанной сцены должна непременно произойти у ворот и что из частных разговоров всадников, мещан и крестьян он больше не узнает ничего. А потому он подошел как только можно было ближе к маленькой пристройке, в которой жил сторож, с двумя окошками, выходившими одно на Париж, а другое на большую дорогу. Только он успел пристроиться на новом месте, как из Парижа прискакал галопом верховой, соскочил с лошади, вошел в домик и показался у окна.
– А-а! – тут же отметил господин де Луаньяк. – Это вы? Откуда?
– От ворот Сен-Виктор.
– Сколько занесено в списки?
– Пятеро.
– А пропуска?
– Вот они.
Луаньяк взял карточки, проверил их и написал на заранее приготовленной доске цифру 5. Гонец тотчас же уехал. Не прошло и пяти минут, как прискакали еще двое: один – от ворот Бурдель, другой – от ворот Тампль. Со слов первого Луаньяк тщательно записал цифру 4, а со слов второго – цифру 6. Гонцы ускакали, а на смену им явились один за другим еще четверо. Первый прибыл от ворот Сен-Дени с цифрой 5; второй – от ворот Сен-Жак с цифрой 3; третий – от ворот Сент-Оноре с цифрой 8; четвертый – от ворот Монмартр с цифрой 4, и, наконец, последний – от ворот Бюсси, также с цифрой 4. Тогда Луаньяк занес все эти цифры и названия ворот на доску и внимательно подвел итог:
«Ворота Сент-Виктор – 5
Бурдель – 4
Тампль – 6
Сен-Дени – 5
Сен-Жак – 3
Сент-Оноре – 8
Монмартр – 4
Бюсси – 4
Сент-Антуан – 6
Итого – 45».
– А теперь, – громко выкрикнул он, – отворить ворота! Пусть входит кто хочет!
В одно мгновение лошади, повозки, ослы, женщины, дети – все это бросилось к воротам, подвергаясь опасности быть задавленными между столбами подъемного моста. И не более как четверть часа спустя народные волны, с утра задержанные у временной плотины, текли по широкой городской артерии, именуемой улицей Сент-Антуан. Когда гул толпы стих, господин Луаньяк сел на лошадь и удалился со своим взводом.
Робер Брике, оставшись последним, хотя был здесь в числе первых, не спеша перешагнул через цепь подъемного моста.
«Все эти люди, – говорил он себе, – собрались сюда, чтобы что-нибудь увидеть, и не видели ровно ничего, даже того, что касается их собственных дел. Я же не рассчитывал ничего увидеть, а между тем единственный, кто кое-что видел. Заманчиво, черт возьми! Не продолжить ли? Но к чему? Я и без того знаю достаточно. Какая мне польза, если я увижу, как четвертуют господина Сальседа? Никакой… И вообще, я отказался от политики. Пойду-ка лучше обедать: солнце показывало бы полдень, сияй оно на небе».
С этими словами он вошел в Париж, и обычная спокойная, насмешливая улыбка была на его губах.
IV
Ложа его величества короля Генриха III на Гревской площади
Если бы мы пошли за толпой по людной улице Сент-Антуан до Гревской площади, в которую она упирается, то, без всякого сомнения, встретили бы по пути много уже знакомых нам лиц. Но пока злополучные горожане, не отличавшиеся благоразумием Брике, медленно продвигаются вперед среди страшной давки, терпя толчки, стиснутые толпой до полусмерти, мы, пользуясь правами исторического писателя, предпочитаем перенестись на крыльях на площадь, окинуть взглядом общую картину и затем на мгновение обратиться к прошедшему, чтобы по лицезрении действия глубже вникнуть в его причину. Фриар был прав, определяя в сто тысяч число зрителей, которые соберутся на Гревской площади и ближайших улицах, чтобы насладиться готовившимся там зрелищем. Все парижане дали друг другу обещание встретиться у городской ратуши, а парижане очень аккуратны в этом отношении. Париж никогда не пропустит ни одного праздника, а разве не праздник, не редкий праздник – смерть человека, сумевшего так разжечь страсти, что одни его осыпали проклятиями, другие – восторженными похвалами, а третьи, и таких было большинство, жалели.
Первое, что бросалось в глаза зрителю, которому удалось бы с той или другой стороны добраться до площади, – отряд стрелков под командой офицера Таншона; эскадрон легкой кавалерии и значительное число швейцарцев, окружавших небольшой помост высотой фута четыре.
Этот помост, настолько низкий, что был виден лишь стоявшим рядом и тем, кому удалось заручиться местами в окнах домов, ожидал еще с утра попавшего в руки монахов осужденного, а его, по энергичному и меткому народному выражению, ожидали лошади – в дальнюю путь-дорогу.
Действительно, под навесом одного из ближайших домов четыре сильных першерона, с белыми гривами и мохнатыми ногами, нетерпеливо били копытами по мостовой и грызлись, оглашая воздух громким ржанием, чем наводили ужас и трепет на женщин, добровольно избравших это место или оттиснутых туда толпой.
Эти лошади никогда не ходили ни в упряжи, ни под всадниками, разве что случайно, в степях своей родины, снисходительно дозволяли толстощекому отпрыску крестьянина, спешившему вернуться с поля после заката солнца, проехаться на себе верхом.
После помоста и лошадей более всего привлекало внимание зрителей обтянутое красным бархатом с золотым позументом широкое окно ратуши, из которого свешивался бархатный ковер, украшенный королевским гербом. То была ложа, приготовленная для короля.
Часы на колокольне пробили половину второго, когда это окно, служившее как бы рамой для картины, заняли лица, которые должны были составить саму картину, вставленную в эту роскошную раму.
Первым показался король Генрих III, бледный и почти совершенно лысый, хотя ему было в то время не более тридцати четырех – тридцати пяти лет. Темная синева окружала его глубоко запавшие глаза, судорога то и дело пробегала по губам. Угрюмый, как всегда, с неподвижным взглядом, он шел величавой и вместе неуверенной поступью. Все в нем казалось странным: и манера держаться, и походка… Скорее тень, чем живой человек, скорее призрак, чем король, – олицетворение непонятной и не понятой его подданными загадки. При появлении короля народ обыкновенно недоумевал, кричать ли ему: «Да здравствует король!» – или молиться за упокой его души? Король был в черном бархатном камзоле, без орденов и драгоценностей. Только на берете, придерживая три коротких завитых пера, сиял бриллиант. На левой руке он держал маленькую черную собачку, присланную ему из тюрьмы его невесткой Марией Стюарт[10],– на длинной шелковистой шерсти сверкали белизной тонкие, как бы изваянные из мрамора пальцы.
За ним шла Екатерина Медичи[11], несколько согбенная годами – королеве-матери было шестьдесят шесть – шестьдесят семь лет, – но по-прежнему высоко неся голову, по-прежнему бросая по сторонам острые как сталь взгляды из-под сдвинутых бровей, что не мешало ей, в своем неизменном траурном одеянии, иметь вид бесстрастной восковой фигуры.
Рядом с ней виднелось кроткое, задумчивое лицо королевы Луизы Лотарингской[12], супруги Генриха III, – на первый взгляд бесцветная и безличная, она была на самом деле преданной спутницей короля в его бурной и несчастной жизни.
Королева Екатерина Медичи шла на торжество – королева Луиза присутствовала при пытке. Для короля Генриха это было прежде всего дело. Эти три оттенка душевного настроения легко читались на гордом челе первой, в покорно склоненном лике второй и на затуманенном, носившем печать скуки лице третьего.
За тремя высочайшими особами, возбуждавшими любопытство и внимание толпы своим безмолвием и бледностью, шли двое молодых людей: один лет двадцати, другой – не более двадцати пяти. Они шли под руку вопреки придворному этикету, по которому никто в присутствии короля, как и в церкви перед Богом, не смеет казаться привязанным к кому-либо. У обоих на губах улыбка: у младшего она дышала безграничной скорбью, у старшего – чарующей прелестью беззаботной молодости. Оба были высокого роста и хороши собой. Они были братьями. Первого звали Генрих де Жуайез граф дю Бушаж, второго – герцог Анн де Жуайез. Еще очень недавно он был известен под именем д’Арк, но Генрих III, питавший к нему исключительную, безграничную любовь, возвел его год назад в пэры Франции и из виконта сделал герцогом.
Народ не питал к этому любимцу короля ненависти, как некогда к Келюсу[13], Шомбергу и Можирону, – ненависти, унаследованной теперь одним д’Эперноном, – а потому приветствовал короля и обоих братьев хоть и сдержанными, но лестными кликами.
Генрих холодно, без тени улыбки поклонился толпе, а затем поцеловал свою собачку в морду.
– Прислонитесь к стене, Анн, – сказал он через секунду старшему Жуайезу[14], оборачиваясь к нему. – Вы устанете стоять все время на ногах. Это может продлиться долго.
– Надеюсь, государь, это продлится долго и, кроме того, будет хорошо, – вставила Екатерина.
– Вы, стало быть, полагаете, матушка, что Сальсед будет говорить? – спросил король.
– Господь, я надеюсь, пошлет это посрамление нашим врагам. Я говорю – нашим врагам, так как они и ваши враги, дочь моя, – прибавила она, повернувшись к королеве Луизе.
Та побледнела и потупила кроткий взгляд.
Король в знак сомнения покачал головой; обратив внимание, что Жуайез все еще стоит, несмотря на данное ему позволение устроиться удобнее, король снова обернулся к нему:
– Послушайтесь же меня, Анн, прислонитесь к стене или к спинке моего кресла.
– Ваше величество, вы слишком добры ко мне, – ответил молодой герцог, – и я только тогда воспользуюсь вашим позволением, когда действительно почувствую усталость.
– Но мы, конечно, этого не станем дожидаться, брат мой, не правда ли? – шепнул ему на ухо Генрих.
– Будь покоен, – скорее глазами, чем словами, ответил ему Анн.
– Сын мой, мне кажется, я вижу какое-то волнение в народе на углу набережной, – сказала Екатерина.
– Какое у вас острое зрение, матушка! – откликнулся король. – Как плохи в сравнении с вашими мои глаза, хотя я-то не стар еще! Да, вы, видимо, не ошиблись.
– Государь, – без всякого стеснения перебил его Жуайез, – это волнение вызвано тем, что толпу заставляют податься назад стрелки. Вероятно, везут осужденного.
– Как это лестно для коронованных особ, – проговорила Екатерина, – смотреть на четвертование человека, в чьих жилах течет капля королевской крови! – При этих словах она смотрела, не спуская глаз, на королеву Луизу.
– Государыня, простите, пощадите! – промолвила молодая королева, тщетно стараясь скрыть отчаяние. – Нет, этот изверг не из моей семьи, и вы, конечно, не хотели этого сказать!
– Разумеется, нет, – вмешался король. – Я уверен – матушка не хотела.
– Но он близок к Лотарингскому дому, – недовольным тоном продолжала Екатерина, – то есть к вашему, дочь моя; следовательно, этот Сальсед имеет к вам некоторое отношение, и даже довольно близкое.
– То есть, – перебил ее Жуайез в порыве благородного негодования, составлявшего отличительную черту его характера и всегда вырывавшегося наружу, кто бы ни возбудил в нем это справедливое чувство, – он, может быть, имеет близкое отношение к господину де Гизу, но никак не к французской королеве!
– А! Вы здесь, господин де Жуайез? – Екатерина с не поддающейся описанию надменностью отплатила ему унижением за неприятность. – Я вас и не заметила.
– Да, я здесь, государыня, и не только с ведома, но и по приказанию короля, – ответил Жуайез, вопросительно взглянув на Генриха. – Четвертование человека, право, не такое веселое зрелище, чтобы я пришел присутствовать при нем, не будучи к тому вынужден.
– Жуайез прав, государыня, – подтвердил Генрих, – здесь дело идет не о Гизах, не о лотарингцах и, конечно, не о королеве, а о том, чтобы видеть, как будут четвертовать господина Сальседа, то есть убийцу, покушавшегося на жизнь моего брата.
– Для меня сегодня несчастный день. – Екатерина сразу отступила и сменила тон, следуя своей обычной искусной тактике. – Я довела до слез мою дочь и, да простит мне Бог, кажется, служу предметом смеха для господина де Жуайеза.
– О государыня, неужели ваше величество может так неправильно истолковывать мою скорбь? – воскликнула королева Луиза, порывисто схватив руку Екатерины.
– И сомневаться в глубочайшем моем почтении, – прибавил Жуайез.
– Правда, правда, – промолвила Екатерина, пуская последнюю стрелу в сердце невестки, – я бы должна была подумать о том, дитя мое, как вам тяжело видеть разоблачение заговоров ваших лотарингских родичей, и хотя вы тут ни при чем, все же это родство заставляет вас немало страдать.
– Да-да, тут действительно есть некоторая доля правды. – Король постарался всех примирить. – Потому что на этот раз мы, по крайней мере, знаем, что думать относительно соучастия господ Гизов в этом заговоре.
– Но, государь, – несколько осмелела королева Луиза, – вашему величеству прекрасно известно, что, став французской королевой, я оставила всех своих родных у подножия трона.
– А, я не ошибся, государь! – воскликнул вдруг Жуайез. – Вот и осужденный. Боже! Какая у него отвратительная наружность!
– Он, видимо, очень боится, – предположила Екатерина, – и будет говорить.
– Если у него на то хватит сил, – проговорил король. – Смотрите – голова его бессильно качается из стороны в сторону, как у мертвеца.
– Да, государь, надо сознаться, он страшен, – согласился Жуайез.
– Как же вы хотите, чтобы человек, у которого в голове гнездятся отталкивающие мысли, был хорош собой? Ведь я вам, кажется, объяснял загадочное соотношение, существующее между нашей физической и нравственной организацией, согласно представлению и объяснению Гиппократа[15] и Галена[16]?
– Весьма возможно, государь; но я не так силен в науках, как вы, и могу сказать только одно – что мне приходилось видеть очень безобразных людей, которые были храбрыми, боевыми служаками… Не правда ли, Генрих?
Жуайез обернулся к брату за подкреплением, желая заручиться его одобрением. Но тот был погружен в глубокую задумчивость, и хотя, казалось, все видел и слышал, в действительности для него не существовало решительно ничего из происходившего вокруг.
– Ах, боже мой, – ответил за него король. – Кто же отрицает, что и этот храбр? Конечно, он храбр, да еще как! Как медведь, как волк или змея! Разве вы забыли его прошлое? Он сжег у себя в доме своего врага, нормандского дворянина; десять раз дрался на дуэли, причем убил троих, и, наконец, был уличен в чеканке фальшивых монет, за что и приговорили его к смерти.
– И несмотря на такие доблестные деяния, – добавила Екатерина, – он получил помилование по ходатайству герцога де Гиза, вашего двоюродного брата, дочь моя.
На этот раз королева Луиза, окончательно сраженная, ограничилась глубоким вздохом.
– Да, – заметил Жуайез, – жизнь его была, можно сказать, полна, и теперь он скоро распрощается с ней.
– А я надеюсь, – возразила Екатерина, – что, напротив, это прощание будет длиться как можно дольше.
– Государыня, – продолжал свое Жуайез, – я вижу там, под навесом, четверку таких добрых коней, и они, как видно, так плохо мирятся со своим вынужденным временным бездействием, что трудно ожидать долгого сопротивления их силе со стороны мускулов, сухожилий и суставов господина де Сальседа.
– Конечно, если бы это не было предусмотрено… Но сын мой по своему добросердечию, – добавила Екатерина с одной ей присущей улыбкой, – прикажет палачам несколько сдерживать лошадей.
– Но, государыня, – робко вставила королева Луиза, – я слышала, как вы сегодня утром говорили госпоже Маркер, что лошади будут растягивать его только в два приема.
– Да, если он хорошо поведет себя. Тогда с ним покончат как можно скорее… Но вы слышите, дочь моя, – вы ведь принимаете в нем горячее участие, и я хотела бы, чтобы вы как-нибудь довели это до его сведения, – необходимо, чтобы он вел себя как надо.
– Дело в том, государыня, что Бог не дал мне такого запаса нравственных сил, как у вас, и потому я не очень расположена видеть чьи-либо страдания.
– Ну так вам остается одно – не смотреть.
Королева умолкла.
Что касается короля, то он ничего не слышал: все его внимание было сосредоточено на преступнике, которого в это время высаживали из позорной колесницы на эшафот.
Тем временем стрелки и швейцарцы понуждали толпу податься назад, и благодаря этому вокруг помоста образовалось свободное пространство, позволявшее всем, несмотря на незначительную высоту эшафота, видеть осужденного. Сальсед – ему можно было дать лет тридцать пять – был крепкого, могучего сложения. Бледное лицо его, по которому струился пот, оживлялось, когда он бросал по сторонам испытующие взгляды, полные какого-то непередаваемого выражения то надежды, то муки. Первый взгляд его был устремлен на королевскую ложу, но, как будто сознавая, что оттуда ему надо ждать смерти, а не спасения, Сальсед тотчас же отвел глаза.
Явно занимала его толпа, это бурное море, в чьих недрах он чего-то жадно искал горящим взором, – в нем, казалось, сосредоточилась вся его жизнь. Толпа хранила молчание.
Сальсед не был заурядным убийцей: во-первых, он был знатного происхождения – сама Екатерина Медичи, весьма сильная по части генеалогии, хотя всегда старалась показать, что совершенно ею пренебрегает, открыла, что в жилах его течет капля королевской крови; а во-вторых, он был офицер, и небезызвестный своими военными заслугами. Руки его, в данную минуту связанные веревкой, в былое время храбро держали шпагу, а в голове этого преступника (в искаженных чертах его ясно читался ужас перед близкой смертью, который он затаил бы, конечно, в глубине души, если бы не теплилась в нем и живая надежда), – в голове этого преступника, повторяем, рождались незаурядные мысли и планы.
Вот почему для многих зрителей Сальсед был героем, для других – жертвой, и только немногие смотрели на него как на убийцу; толпа вообще неохотно относит к разряду обыкновенных преступников тех, кто отважился на одно из государственных преступлений, которые заносятся не только на скрижали правосудия, но и на скрижали истории.
В толпе говорили про то, что Сальсед – наследник храбрых, воинственных предков; что отец его вел ожесточенную борьбу с кардиналом Лотарингским[17], приведшую его к героической смерти во время убийств Варфоломеевской ночи; что сын, забыв об этой смерти или, скорее, принеся свою ненависть в жертву честолюбивым замыслам (всегда возбуждающим в народе симпатию), заключил договор с Испанией и с Гизами с целью уничтожить во Фландрии зарождающееся владычество ненавидимого французами герцога Анжуйского.
Говорили также о существовавших отношениях между ним, База и Балуином, предполагаемыми главарями заговора, едва не стоившего жизни брату Генриха III, герцогу Франсуа; о замечательной ловкости, выказанной Сальседом во время судебного разбирательства в стараниях избегнуть виселицы, костра и колеса, еще обагренного кровью его сообщников; о том, что он один своими показаниями, – по словам лотарингцев ложными, но искусно придуманными, – настолько сумел разлакомить судей, что в надежде узнать от него еще что-нибудь поважнее герцог Анжуйский решил до времени пощадить его и приказал доставить во Францию, вместо того чтобы отрубить ему голову в Антверпене или Брюсселе. Правда, в конце концов он пришел к тому же; но во все время этого путешествия, – на которое он и рассчитывал, делая свои разоблачения, – Сальсед не переставал надеяться, что соучастники его отобьют и увезут. К несчастью, он в данном случае не предусмотрел, что охрана его драгоценной особы будет доверена господину де Бельевру, а последний проявит неусыпную бдительность, и ни испанцы, ни лотарингцы, ни члены Лиги не смогут подступиться к нему ближе чем на несколько миль.
Сальсед продолжал питать надежду в тюремном заключении и во время пытки; не утратил ее на позорной колеснице и даже теперь, стоя на эшафоте. Не то чтобы у него не хватало мужества или душевной силы покориться неизбежному, но он принадлежал к тем живучим людям, которые защищаются до последнего вздоха, с редким упорством и мощью.







