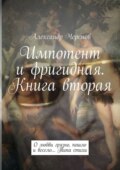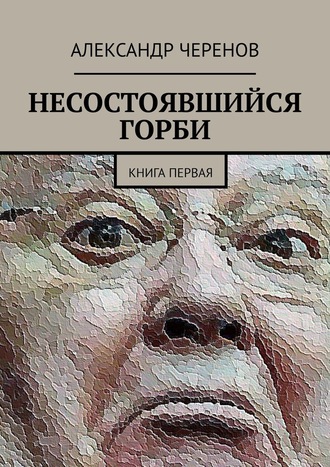
Александр Черенов
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГОРБИ. КНИГА ПЕРВАЯ
Глава третья
Двадцать второго ноября тысяча девятьсот восемьдесят второго года Григорий Васильевич Романов был избран секретарём ЦК. «Избран» по принципу «царь решил – а бояре приговорили». Правда, Андропов снизошёл к убедительным доводам Григория Васильевича – и дал тому… нет, не шанс: время. И не на прощание с товарищами: на то, чтобы ввести «наследника» Льва Зайкова в курс дела. Некоторое время пришлось совмещать – ну, а с января восемьдесят третьего Романов окончательно перебрался в Москву.
Как Генсек и обещал, он сберёг место Романова – для того, чтобы Романов не берёг себя на этом месте. Да и в кураторах оборонной промышленности не очень побережёшь себя, даже не будучи Романовым.
«Сберечься» не сумел бы никто, даже постаравшись. Но сейчас этому «никому» не пришлось бы стараться даже гипотетически: на должность Григорий Васильевич шёл на безальтернативной основе. Андропов понимал, что выбирать ему не из кого: вариант был не только лучший, но и единственный. Правоверный антисталинист – и такой же правоверный сторонник «административно-командного социализма» – Андропов горой стоял за военно-промышленный комплекс.
И не только потому, что за военно-промышленным комплексом стояла «гора» «в лице» маршала Устинова – сторонника не только Юрия Владимировича, но и политики дружбы с позиции силы. И сам Юрий Владимирович тоже дружил не только с Дмитрием Фёдоровичем, но и с советским ракетно-ядерным щитом. Именно поэтому Романов и «пошёл на ВПК»: представлять интересы партии и государства в этом «межведомственном ведомстве» лучше него не мог никто.
Без лишней – неуместной – скромности Григорий Васильевич понимал собственную безальтернативность. Не понимал он другого: зачем Генсек помещает «в одну берлогу» даже не двух, а нескольких «медведей»? Ведь одновременно с усилением его позиций Андропов усиливал и позиции Горбачёва. Да и усиливал ли он его, Романова, позиции? Переход в Москву – это не обязательно служебный рост. Сколько уже прошло перед его глазами тех, чьё выдвижение было своеобразной формой «задвижения»! Метод – сколь прост, столь и эффективен: сначала под прикрытием выдвижения человека отрывают «от корней» – а потом берут его голыми руками. И его – и у него! Потому что забирают всё: не только настоящее и будущее, но нередко и прошлое!
В том числе, и поэтому Григорий Васильевич не спешил в Москву. Пока он в Питере – «возьми его за рупь, за двадцать»! За него горой – бюро обкома, горкомы, райкомы – все «питерские сепаратисты». А как дадут «добро» – всё: заступиться за него будет некому! А один, как известно, в поле – не воин. Тем более, когда в этом поле – «товарищ» на «товарище», и все, как один – «по ту сторону» и по твою душу.
Романов не преувеличивал: в Политбюро у него не было друзей. Не в человеческом плане: хотя бы соратников. Конечно, он не был одинок в данном отношении – но это не слишком утешало. Кроме того, здесь уже сформировались «группы по интересам» – и ему не находилось места ни в одной из них. Поэтому, когда один из «ленинградских близких» высказал осторожное предположение о том, что этим выдвижением Андропов хочет столкнуть лбами Устинова и Романова, Григорий Васильевич не стал торопиться со скептическим хмыканьем. Что-то в этой версии было – какое-то здравое, хотя и не на здоровье, зерно. Правда, когда «товарищ» развил мысль до коварных замыслов Андропова в отношении Устинова, Романов отставил версию целиком. В предложенной версии ему отводилась роль орудия, с помощью которого Юрий Владимирович собирался «обезвредить» Дмитрия Фёдоровича – а это не подкреплялось фактами.
Отставка версии произошла не по причине уязвлённого самолюбия Романова. Причина заключалась в другом: Андропов и Устинов были, что называется, «мы с Тамарой ходим парой». В этом отношении они составляли редчайшее исключение из общего правила: дружили, понимаешь! И другой такой пары друзей в Политбюро не было. И, что самое любопытное, дружили они не только против кого-то – но и друг с другом. Поэтому даже мысль о подобных замыслах Андропова не имела ни минимального шанса на появление в голове Романова, не говоря уже о «получении прописки» или хотя бы «вида на жительство».
А, вот, столкнуть их с Устиновым лбами – другое дело. Такое коварство было возможно. И, главное: в духе Андропова. Этот человек походил на еврея не только внешне, но и «внутренне»: поступками. Григорий Васильевич конечно, слышал байки о еврейских корнях Андропова – но они значили, куда меньше еврейских по сути проявлений Юрия Владимировича, даже если тот «звезды Давида» – ни сном, ни духом, никаким боком! Как и всякий «нормальный еврей», Андропов был умён, хитёр, беспринципен и коварен. Поэтому ещё неизвестно, кто кого больше образовал: Андропов – КГБ, или КГБ – Андропова. Оба «товарища» стоили друг друга.
Поэтому Григорий Васильевич не исключал и «варианта-бис»: дополнения Андроповым платонической дружбы с Устиновым «политической дружбой» против Романова. Юрий Владимирович наверняка не забыл реверансов Запада Романову. И пусть семидесятые остались за горизонтом – вместе с ушедшими туда же амбициями Романова – Андропов не мог так легко «отпустить» Григорию Васильевичу даже потенциала соперничества. Как следствие, Романов не сомневался в том, что выдвижение его носит характер не столько «производственный», сколько «тайн мадридского двора». Андропов всё рассчитал верно. В этой ситуации выигрывал только он один: и от «производственных показателей» толкового руководителя, и от помещения теоретически опасного Романова в банку с оголодавшими «кремлёвскими пауками»…
Романов нахмурился. Мысли и так «нагружали» – а эти и вовсе «гнули к земле». Его позиция была самой ущербной: при таких исходных он не приобретал ничего – зато потерять мог всё. Кое-что он уже потерял: опору на питерских большевиков. Сейчас, как никогда раньше, он нуждался в союзниках. И не просто в союзниках: во влиятельных «товарищах», пусть и таковых всего лишь в кавычках. В тех, которые хотя бы не первыми станут побрасывать хворост в костёр, на который Андропов уже определяет его.
Но и это ещё было не всё: одного тлеющего конфликта с участием Романова Андропову было мало. Именно поэтому Генсек раздувал сейчас пламя из искры по фамилии «Горбачёв». При мысли об этом человеке Григорий Васильевич не мог не приходить в состояние изумления – и на регулярной основе. И изумлялся он не Горбачёву – а тем, кто им «ходит по доске»! Неужели эти люди не видели, кто есть «ху»?! Да все старики, вместе взятые, представляли меньшее зло, чем один этот «молодой – да ранний»! Интриган Андропов хотя бы дело знал – и не только оперативно-розыскное на каждого «друга, товарища и брата»! А этот?! Пустобрёх, неумеха – но интриган, куда тому Андропову!
А, может, Юрию Владимировичу именно такой и был нужен?! Хотя бы – для того, чтобы обложить Романова Горбачёвым, как того медведя в берлоге?! От этих мыслей Григорию Васильевичу становилось вдвойне не по себе: вторую порцию составлял дискомфорт от сравнения. Неужели Андропов не мог «защититься» от него кем-нибудь, более достойным?! Ведь Романов и Горбачёв «в одной берлоге» – это оскорбление личности… Романова! Больше того: и для оскорбления – мезальянс! Тоже, понимаешь: нашли «поединщика»!.. Вот, разве, что – в контексте лозунга детской песенки «Без друзей меня – чуть-чуть, а с друзьями – много»?! Горбачёв – политический карлик, но на плечах Андропова – вполне гигант!
А тут ещё – слухи о том, что идею выдвижения Романова Генсеку подсказали на пару Горбачёв с Громыко. Это было похоже на правду. Оба – мастера «политической вивисекции», оба испытывали «давнюю симпатию» к Григорию Васильевичу – только у «симпатии» Громыко стаж был побольше.
«Да, уж: Громыко!» – не уставал изумляться Григорий Васильевич. И – за дело: ведь, если с Горбачёвым всё было ясно, ибо тот «метил» из «молодых да ранних», то чувства его «подельника» не могли не вызывать у Романова недоумения. Разве он переходил дорогу Громыко?! Разве помогал «отдельным товарищам» и целым «органам» «раскрыть глаза на подлинное лицо министра иностранных дел»? Да, «ни Боже, мой»! Громыко был для него «обитателем соседней планеты» – и по этой причине «вопросов коммунального характера» между ними и возникнуть не могло. Разве что Андрей Андреевич сам «метил» – и по этой причине «по-товарищески» «копал» и «капал»?!
«Всё это было бы смешно, когда бы не было…»… даже не смешно! Никто и никогда не рассматривал кандидатуру Громыко ни в шутку, ни всерьёз. И, если Андрей Андреевич вдруг начал сам рассматривать свою кандидатуру – да ещё всерьёз, то это могло означать лишь одно: товарищ совсем утратил чувство юмора. Конечно, товарищу можно было бы помочь – и со зрением, и с чувством юмора – но это было равнозначно тому, чтобы самому взяться за лопату для выполнения «земляных работ». И не под Громыко: под собой.
Отчасти утешала версия ублажения Генсеком недоброжелателей. Не своих: Горбачёва. Такая версия имела право на существование – и не только потому, что Романову очень хотелось этого. Разумеется, самоуспокоения в ней было процентов пятьдесят – но почти столько же было и других ингредиентов: простая арифметика! Наличие у Горбачёва недругов означало не только… наличие у Горбачёва недругов, но и наличие у Романова союзников. Союзников всего лишь потенциальных, вынужденных, де-факто попутчиков – но имеющихся наличием хотя бы в перспективе.
Григорий Васильевич мысленно «защёлкал костяшками счетов». Но куда и сколько ни клади – а у Андропова имелся перевес. И не только «по штату на текущий момент» – но и «по результатам работы за отчётный период». Достаточно было вспомнить «трудовые достижения» тогда ещё Председателя КГБ – и всё тут же становилось на место.
Далеко и ходить не требовалось: Кулаков! Фёдор Давыдович был на таком хорошем счету у Леонида Ильича, что ничего хорошего это ему не сулило. Исключительно потому, что ничего хорошего это не сулило Юрию Владимировичу. Почему именно ему? Не только потому, что – «закон обратной связи»: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Недаром ведь «каждый солдат носит в своём ранце жезл маршала»! А для того, чтобы этот жезл не остался бутафорским, надо много работать – и не только над собой, но и над товарищами. Над товарищами даже – в первую очередь. И Юрий Владимирович работал: в этом отношении он был незаменимым работником. Заменимыми были другие – те, которых он собирался заменять.
И ведь заменял! Кулаков стал тому наглядным примером. Мужик был настолько хорош – и собой, и результатами – что Юрию Владимировичу становилось от этого плохо. По этой причине ему не оставалось ничего другого, как «поменяться с товарищем ролями»: обменять своё «плохо» на его «хорошо». И шестидесятилетний здоровяк Фёдор Давыдович – второй «по молодости» в тогдашнем Политбюро за Романовым – в ночь на семнадцатое июня семьдесят восьмого года скончался от острой сердечной недостаточности. Ни дня не «бюллетенивший», глушивший водку стаканами и литрами – а «оказался» «недостаточен сердцем»!
Только грешить на водку и даже баб – само по себе грех. Да, Фёдор Давыдович щедро делился собой и с водкой, и с бабами. Но с его здоровьем ресурсов на оба фронта ему хватило бы ещё лет на двадцать! Причиной «сердечной недостаточности» оказалась другая недостаточность: политической бдительности. Двумя годами ранее «по Олимпу» прошёл слушок о том, что «группа товарищей» намерена выдвинуть работящего Кулакова, «задвинув» нетрудоспособного Брежнева! И хотя Фёдор Давыдович даже «по пьяной лавочке» не открылся «полковником Исаевым» – так и продолжал работать «штандартенфюрером Штирлицем» – участь его была решена. Потому что «бережёного Бог бережёт» (в роли «бережёного» – Юрий Владимирович Андропов)! Потому что «лучше перебдеть, чем недобдеть» – а в этом отношении Юрий Владимирович был чекистом не меньшим, чем его предшественники на посту Ягода, Ежов и Берия!
И – какое коварство: речь на похоронах Кулакова давал Горбачёв, которого Андропов наметил на место покойного ещё тогда, когда тот был всего лишь кандидатом в покойники! И речь Горбачёв давал лишь потому, что Андропов дал ему слово, протиснув к микрофону сквозь толпу конкурентов! Ведь «засветиться» на трибуне – а особенно на похоронах – большое дело, даже «полдела»! То самое «полдела» – как полпути к вершине!
И быть бы Романову вторым на очереди «по слабости сердца» – если бы не то обстоятельство, что Юрий Владимирович, пусть и на пару с Леонидом Ильичом, но уже поработал с Григорием Васильевичем! Тогда – ещё в семьдесят четвёртом. Поработал, конечно, топорно – но это был тот случай, когда «на все сто» оправдалась установка Геббельса: «Чем чудовищнее ложь – тем легче ей поверят!». Им троим: Брежневу, Андропову и совместной лжи, поверили – и это обстоятельство, хоть и убило Романова политически, продлило его физическое существование.
Если руководствоваться всё теми же слухами, после «тяжёлой утраты друга и товарища» Кулакова, у Андропова осталось всего три соперника в борьбе за место у тела дряхлеющего Генсека: Мазуров, Кириленко и Машеров. С Мазуровым Юрий Владимирович обошёлся вполне деликатно: Кирилла Трофимовича «не вынесли ногами вперёд», а всего лишь сопроводили коленом под зад. Ну, вот, не было крайней необходимости в крайних мерах: Мазуров оказался понятливее Кулакова.
Не пожелал Юрий Владимирович и крови Андрея Павловича Кириленко. Не от избытка гуманизма не пожелал: «лейб-медик» Чазов – друг Андропова, а в интерпретации недоброжелателей – «стукачок» – «по-дружески» информировал покровителя (покрывателя) о том, что Андрей Павлович… сам идёт навстречу пожеланиям трудящихся! В конце семидесятых Кириленко «бурно прогрессировал»… по линии прогрессирующего склероза сосудов головного мозга. Всё более нечленораздельной становилась его речь, всё более устрашающе зияли провалы в его памяти – и это не могло не радовать Юрия Владимировича. Ведь Андрей Павлович избавлял не только Юрия Владимировича от работы над собой – но и себя от работы с ним Юрия Владимировича!
А, вот, Машеровым пришлось заняться всерьёз. Товарищ оказался «с мухой в носу»: вздумал не понимать реалий! И каких: политического бытия! Пётр Миронович всё активнее и всё опаснее заблуждался насчёт себя – да так, что, в конце концов, Юрий Владимирович перестал заблуждаться насчёт него! Вот и пришлось Юрию Владимировичу обратить на товарища «самое пристальное внимание». И не хотел – а вынудили! Нужно было наставить Петра Мироновича на путь истины, вернуть к свету, к жизни – неважно, что путь оказался «последним», свет – «тем», а жизнь – «лучшей».
По состоянию на тот момент, когда Брежнев уже и стоять не мог, Андропов, наконец, состоялся. Теперь у него оставались лишь одни «друзья»: кто – своей волей, кто – чужой. Тот самой, что сродни неволе…
Глава четвёртая
На выборах Генерального секретаря Григорий Васильевич голосовал, разумеется, за Андропова. Голосовал и потому, что и выборов, как таковых, не было – товарищ шёл на безальтернативной основе, и потому, что отчётливо сознавал реалии политического бытия. После «воспитательной работы» образца семьдесят четвёртого года на Романове поставили крест – и даже «забили», но уже «кое-что» другое. Своей «банды» – коллектива единомышленников – Григорий Васильевич сколотить не мог по причине «иногородней прописки», чужую не давали даже в аренду – вот и пришлось ему учитывать реалии бытия.
В этих реалиях ему отводилось место «на заднем дворе» кремлёвского Олимпа. Нет, он, конечно, по-прежнему значился членом Политбюро, входил в состав Президиума Верховного Совета, на съездах и пленумах сидел лишь «этажом» выше Брежнева – но… былого Романова уже не было! Никто уже не примеривал на его голову «шапку Мономаха»! Теперь Григорий Васильевич значился лишь в ряду «сдержек» и «противовесов».
До уровня «разменной монеты» он не опустился лишь потому, что его и не опускали туда. Андропов сотоварищи были не дураки. Они понимали, что Романова нельзя «немножко убить»: его надо «убивать сразу – и целиком».
А такие вопросы «с кондачка» не решаются: Григория Васильевича надо было подготовить «к торжественным проводам в мир иной». А в том, что Андропов не успокоится до тех пор, пока не успокоится навсегда былой конкурент, Григорий Васильевич и не сомневался.
Но только этими доводами разума «выбор» Романова не ограничивался: нашлись и другие. С учётом этих «других» Григорий Васильевич и голосовал за Андропова не только поэтому, что Андропов стал Андроповым, а сам он, Романов, перестал быть Романовым. А ещё – не потому, что «недолго уже осталось» Юрию Владимировичу: Григорий Васильевич совсем не был уверен в том, что сам переживёт – хотя бы политически – «не жильца» Андропова! Причина, какой бы невероятной она не показалась «гостю Олимпа», состояла в том, что Романов с Андроповым были… «одной крови»! И это – при этом, что Романов был верным почитателем Сталина, а Андропов – не менее верным его хулителем! Это расхождение не было принципиальным, ибо стороны сходились в главном: во взглядах на мир и на положение Советского Союза в этом мире. Да и взглядами на то, что внутри, они не сильно отличались друг от друга. Оба были ревностными воителями «за дело административно-командной системы». И воителями не только ревностными, но и идейными.
Андропов был «убеждённым» и «деятельным» – и поэтому Романов готов был уступить кресло, тем более что и предназначалось оно не для его зада. В Андропове Романову нравилось то, что тот и не собирался демонтировать социализм – «хорошее детище нехорошего Сталина». Это же касалось и сферы «дружбы между народов». Недаром же вскоре после очередного «исторического» пленума записной антисоветчик Бжезинский записал очередной антисоветизм: «Андропов пытается нормализовать отношения с Китаем, ухаживать за Европой и изолировать США». Такую здравую политику Романов не мог не приветствовать: это была его политика, хоть и «в редакции» Андропова.
Правда, некоторые «шаги вовнутрь» настораживали. Нет, против секретарства Рыжкова, Николая Ивановича, Григорий Васильевич возражений не имел: Рыжков занял место Кириленко. Парень – таковой, конечно, условно: двадцать девятого года, то есть, лишь на шесть лет моложе Романова – он был вполне «ничего себе». И хоть он и был с Урала – но вовсе не «с Урала»! За плечами у него был «Уралмаш», министерство тяжёлого машиностроения, Госплан СССР. А это значило, что товарищ «понюхал пороху» – и не в кабинетах, а на производстве! Именно поэтому Андропов дополнительно нагрузил его Экономическим отделом ЦК.
А, вот, другой «товарищ издалёка» Романову совсем не понравился. С Егором Кузьмичом Лигачёвым они были немного ближе по годам – но много дальше по всему остальному: классические «разного поля ягоды». Для Романова Лигачёв был не только «не с нашего двора», но даже «не с нашей улицы»! Мало того, что Егор Кузьмич «поворачивался задом» к Сталину – так он ещё к Горбачёву поворачивался лицом! «Сибирь» до неприличия активно напрашивалась на дружбу с «Кавказскими Минеральными Водами»! И, ладно бы – на «русско-водочной основе»: на почве идеологической близости. Оба деятеля были нездоровы – и даже больны – критиканством. Всё им было не так: и «темпы», и «роста», и «показателей». И в своём неудовольствии они винили не отдельных товарищей – а всю систему сразу. И хотя делали они это не с трибун – но шила в мешке не утаишь, особенно, когда оно то и дело напоминало о себе заду.
Лигачёву Андропов доверил Отдел оргработы ЦК. С точки зрения Романова: «пустил козла в огород». А ведь для того, чтобы «разгуляться вволю», Лигачёв имел целых три недостатка: активность, жёсткость, целеустремлённость. И самое неприятное заключалось в том, что все эти недостатки он поставил на службу не только Андропову, но и Горбачёву.
С подачи этих двоих Юрий Владимирович развернул настоящую «охоту на ведьм»: начал менять «первых на местах», как перчатки. Досталось «генсековского внимания» и народу в Совмине и ЦК. В результате народ… пошёл в народ! То есть, решительно опроверг шуточный перепев времён Леонида Ильича: «Вышли мы все из народа – как нам вернуться в него?». Оказалось – не вопрос: Юрий Владимирович нашёл, «как» – и вернулись! Как миленькие, вернулись! И обратно в народ – пусть и не в тот, что от сохи, пусть в служивый – но на самые нижние этажи. Можно сказать, что слились с серой массой… трудящихся.
Итогом кадровых маневров явилось то, что Рыжков стал отвечать за промышленность – хотя ещё и не головой, а Горбачёв продолжил свои фантазии на темы продовольственного изобилия. Григорий Васильевич не преувеличивал: именно Горбачёв был запевалой сказочной – только в своей нереальности – «Продовольственной программы до 1990 года включительно». А Леонид Ильич только «огласил весь список» «из скатертей-самобранок, волшебных палочек и горшочков-«вари!».
В своей работе Григорию Васильевичу не нужно было пересекаться с Горбачёвым – а с Рыжковым найти общий язык не составило труда. Парень
оказался весьма покладистым и для своей должности на удивление неглупым. И, если он не слишком усердствовал по линии помощи – то и «в обратном направлении» тоже был «не слишком». Большего от него и не требовалось: Григорий Васильевич знал не только своё дело – но и чужие дела, и даже делишки.
Всё бы ничего – да не только назначение Лигачёва портило Романову и настроение, и кровь. Увы, Андропов «не остановился на достигнутом». В экономику табуном повалили обладатели всевозможных регалий и отсутствующих достоинств: Аганбегян, Арбатов, Богомолов, Заславская, Примаков, Тихонов, Абалкин, Петраков, Ситарян. Из Канады «выписали» «притчу во языцех»: Александра Николаевича Яковлева, вечного антисоветчика – и по совместительству посла в этом британском доминионе. Как тут было не вспомнить классика! Только, если книжный Бендер чувствовал «руку Корейко», то взаправдашний Романов – «руку Горбачёва». Без этого специалиста по борьбе – но не за урожай, а «под ковром» – возвращение блудного, а ещё больше заблудшего сына не состоялось бы.
А ведь ещё совсем недавно Юрий Владимирович основательно и почти «по-русски» прошёлся по личности этого субъекта. Но Горбачёв был нужен Андропову – хотя бы как противовес Романову и прочим «увесистым» членам – и Юрию Владимировичу пришлось наступить на горло собственной песне, вместо того, чтобы «наступить на хвост» Яковлеву.
Вероятно, в качестве лучшего специалиста по рекламе загнивающего капитализма, Александр Николаевич и был определён на вовсе «не пыльное» и очень «тёплое место» директора ИМЭМО. Но интриган Горбачёв не был бы интриганом Горбачёвым, если бы не совершил дополнительное поползновение – через вползание в душу Андропова – и Яковлев был «проведён» советником ЦК по совместительству. Ни для кого – а для Романова особенно – не являлось загадкой то, что этот советник там насоветует!
Анализируя назначения, Григорий Васильевич почти физически ощущал шевеление волос на голове: Юрий Владимирович назначал… назначенцев Михаила Сергеевича! По недогляду – или умышленно – наверх просочились не только Рыжков с Лигачёвым, но и такие «бойцы идеологического фронта», как Медведев и Кручина. Первого Андропов «посадил» – увы, не в Лефортово: на науку, Заведующим отделом ЦК. Это должно было обеспечить невиданный рывок в науке… о превосходстве рыночной экономики над плановой, а «общечеловеческих ценностей» – над «моральным обликом строителя коммунизма». Ну, а Кручине тоже нечего было кручиниться: должность управделами ЦК позволяла управиться… не только с делами ЦК, но и со своими личными. А заодно – и с теми, кто мешал бы… мешать личные дела с государственными.
Из старых знакомых «поднялся» только Гейдар Алиев. Это повышение не трогало Григория Васильевича, потому что не задевало. Ведь ещё в сентябре, за пару месяцев «до отхода», Леонид Ильич планировал заменить им «окончательно выздоровевшего» Кириленко. Но очередная хроническая «временная нетрудоспособность» помешала Генсеку довести Андрея Павловича до Новодевичьего кладбища: по устоявшейся партийной традиции, «отставной козы барабанщик» не имел право на упокоение у Кремлёвской стены. Потому что иерархия – она и гробу иерархия!
Романов мало пересекался с Алиевым – но мужик вызывал у него уважение одним лишь фактом причастности к КГБ. Кроме того, Алиев был умён, деятелен и образован: как-никак – три восточных языка. И это – при том, что члены Политбюро в основном знали два языка: русский разговорный и «русский разговорный». До того, как «подняться» самому, у себя в Азербайджане невероятно обходительный Алиев занимался конкретным делом: поднимал республику. И поднял – да так, что она стояла на ногах крепко, не шатаясь. И неважно, что «опоры» приходилось выбивать в России – и даже из-под неё!
Конечно, по части славословия Леониду Ильичу он явно перестарался, затмив «поэтически-политическими» изысками даже классические здравицы халифам времён «Тысячи и одной ночи». Читая «Правду» с отчётом о пребывании Леонида Ильича в Баку, Григорий Васильевич «хохотался до упаду»: оказывается, «пройдут года и столетия – а благодарный азербайджанский народ никогда не забудет этот день». Имелся в виду день, в который дееспособного на полпроцента Леонида Ильича «предъявили» населению столицы Азербайджана.
Но, заслуженно не одобряя «перегибы» и «переборы», Романов не слишком усердствовал в критике Алиева. Возможно, хитрый «восточный человек» благодарил Леонида Ильича за предстоящее назначение – или же дополнительно убеждал его в правильности выбора. А, может, Алиев «столбил участок»: лишний «транш» из Москвы совсем не был лишним. Гейдар умел просить так, чтобы не только не отказали, но ещё и благодарили «за счастье оказать эту маленькую услугу большому другу Москвы».
Назначение Алиева явно не было направлено против Романова. Они не пересекались и раньше, не предполагалось этого и в будущем. Не только в силу характера обоих: в силу характера должностей обоих. Как член Политбюро и первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, Алиев «облекался доверием» за транспорт и производство товаров народного потребления. Так же – и в политической составляющей: и здесь Григорию Васильевичу не о чем было тревожиться. Алиев не был членом команды Андропова, и «не состоял у него на довольствии». Больше того: между ними никогда не было доверительных отношений – а без этого один человек в Политбюро не мог быть «человеком» другого человека в Политбюро.
Поэтому Григорий Васильевич не сомневался в том, что Алиев был назначен первым замом Председателя Совмина не как друг Андропова, а как противовес Тихонову. Другом Андропову Гейдар Алиевич, по счастью – для Романова – не был. Хотя, почему «по счастью»?! «Счастье» тут – понятие относительное и весьма условное. Да, Алиев не должен был примыкать, а тем более, пресмыкаться.
Это касалось всех потенциальных объектов «примыкания» и «пресмыкательства»: и Андропова, и Горбачёва, и его непосредственного начальника Тихонова. Но, как истинно «восточный человек», а ещё больше как бывший чекист и нынешний «политбюровец», Алиев вряд ли полез бы в драку за интересы конкретного товарища. Да, что, там, «в драку»: даже стороны не принял бы! Вот, на что он действительно затратил бы максимум сил – так это на то, чтобы остаться «над схваткой». Другой вопрос: получится ли это у него? В Политбюро «мудрых Хануманов» и без него хватает – да и тех не жалуют!
Но в любом случае, Романов мог не опасаться Алиева: как минимум, «падающего подтолкни» – это не его части. Одно дело – «рассыпаться» перед рассыпающимся Брежневым – и совсем другое: «сыпать» единомышленника. А в том, что их с Алиевым не разделяет «стратегическая пропасть», Романов не сомневался. Гейдар – не Горбачёв. За это говорило и его прошлое, и его настоящее. Гейдар – прагматик-производственник, а не безголовый реформатор образца «главное – ввязаться в бой – а там видно будет!». Конечно, в нём – чуть меньше здорового консерватизма, чем в Романове – но всё равно: свой брат-консерватор!..
Шестнадцатого декабря состоялось давно ожидаемое – и давно заслуженное – событие: Щёлокова «сняли с министерства внутренних дел». Правда, событие вместо «вселенского» – в масштабах СССР – размаха, оказалась местного значения. Этим скромным шагом Юрий Владимирович и ограничился: ожидаемого второго шага не последовало. Более того: за Николаем Анисимовичем сохранили всё его имущество, движимое и недвижимое, включая «собственную шкуру»! Но мало кто сомневался в том, что – надолго: люди «Андропова» уже «вооружились лопатами» – и не только для того, чтобы всего лишь «подкопать» Щёлокова. Параллельно с «раскопками» отставному генералу армии «отрывали последний окоп полного профиля»: стандартные два восемьдесят.
На место Щёлокова Юрий Владимирович определил чекиста Федорчука, авансировав его согласие заменой трёх генерал-полковничьих звёзд одной генерала армии. Имеющийся у него крупный недостаток – выдвиженец Черненко, Федорчук полностью компенсировал многочисленными достоинствами: грубость, хамство, незнакомство с лирикой. С учётом таких данных, он представлялся идеальной кандидатурой для возглавления работ «по санированию милицейского общества».
Как человек дела… в отношении другого человека, в своей практической деятельности генерал неукоснительно исповедовал верность принципу «Лес рубят – щепки летят!». Другого такого «рубаки» ещё поискать надо было – и всё равно не найти! Юрий Владимирович не сомневался: этот «наломает дров» от души… в смысле: из душ человеческих. Но это был тот редкий случай, когда подобный творческий порыв лишь приветствовался. А всё – потому, что «лучше перебдеть, чем недобдеть!».
На КГБ, к очередному неудовольствию Романова, остался верный андроповец Чебриков. Отношения с ним, как не сложились с самого начала, так и не складывались до сих пор. А ведь, казалось бы, «одно дело делаем: ты – по-своему, я – по-своему». Оба представляли опору государственности: один – тайную полицию, другой – ВПК. Чебрикову уже по должности полагалось иметь «правильные» взгляды – однако он упорно не соответствовал. Дошло уже до того, что он не только не спешил демонстрировать «верность идеям» – но и примыкал к Горбачёву!
Романов терялся в догадках: не штафирка ведь партийная – а, поди ж, ты! С чего это гэбэшник так «возлюбил ближнего своего»?! Оттого, что «ближний» – «свой»?! То есть, всё, что от Андропова – «чистое», а, коль скоро Романов – «от себя», то он – «нечистый»?! Отсюда с неизбежностью вытекал огорчительный вывод: Чебриков даже не в перспективе, а уже сейчас дополнительной гирькой ложился на чашу весов Горбачёва. Григорий Васильевич не сомневался в том, что Андропов в самое ближайшее время «протолкнёт» Чебрикова в Политбюро – хотя бы кандидатом в члены. И, ладно, если бы Генсек создавал комфортное большинство для себя: ведь он создавал его для Горбачёва, пусть и впрок!