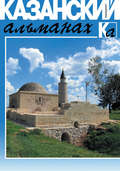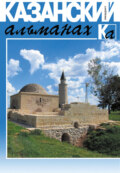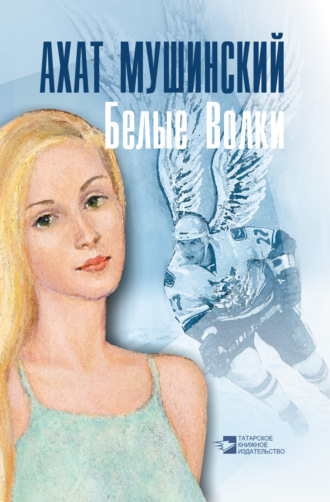
Ахат Мушинский
Белые Волки
22. Поцелуй в ночи
Буля с Кашей заплатили за сломанные стулья (к тому времени и я с Еленой сунул нос в пивбар), ещё за какую-то мелочовку (кружки, тарелки, вазу…), купили апельсинового сока, минералки… Надо отдать должное, персонал бара проводил «дебоширов» уважительно. Работников «Клешни», оказалось много больше, чем во время конфликта. Они с компанией из-под «компаса» высыпали на улицу, пожелали нам удачи, что растрогало нас всех до глубины души.
Оппонентов наших друзей видать уже не было. Ни самих, ни автомобиля, который мы и при входе сюда не заметили. Но как это Каша с Булей сразу-то не узнали своих руководителей?! Я своего председателя Союза художников или директора худфонда не то что сзади, в затылок, но и в лежачем положении, со стороны ступней определю. Понятно, полумрак был, как разъяснил мне мой друг, впереди Каша шёл, подшофе чуток, да ещё в непривычном интерьере, в неурочное, позднее время та троица находилась. Действительно, недавно вот встретил одну знакомую на оперном фестивале, улыбаемся друг другу, разговариваем, а я, убей, не помню, кто она такая. А она – продавщица в нашем продуктовом магазине, почти каждый день мне то сосиски, то сыр с маслом отпускает. Попала вот не в тот интерьер, и всё, заклинило память.
Не успевший остыть Каша в машине, за спиной у меня, рядом с Еленой продолжал кипеть и булькать.
– Сумели-таки постоять за правое дело, – оценил я произошедшее, обернувшись.
– В чём оно, это правое дело, заключается? – спросила Елена. Опять её не интересовала шутливая поверхностность, ей необходима была суть.
– Ну-у, эта история не одного дня, – стал мягко, даже как бы отстранённо от самой истории, будто сам и не был в её действующих лицах, объяснять Каша. – Понимаешь… – тщательно в обществе дамы подбирал он слова, – понимаешь, в жизни очень много несправедливости, и часть людей этим пользуется, для них это статья дохода. Любое нормальное животное, насытив свою утробу, останавливается, но не человек. Человек продолжает обжираться. Но это ведь за счёт кого-то, за счёт честных людей. И этим людям, и не только этим, а порою и сторонним, простым свидетелям, надоедает беспардонное нахальство, и они восстают за своё правое дело. «Ходи право, смотри браво!» – говорят у нас. Но за это приходится дорого платить. Тебя просто-напросто начинают в асфальт закатывать, и ты взбрыкиваешься… Понимаешь?
– Понимаю, но я хотела бы поконкретнее – в чём несправедливость-то, в чём конфликт? А так, ты правильно говоришь, Руслан, только слишком общо…
– Да, – подтвердил Буля, – Руслан у нас умеет обобщать.
– Точно, – поддакнул я и спросил: – Но ответь вот, Руслан: почему в этой заварушке сначала ты опрокинул Свата, а потом стал спасать?
– Так его закрутили-завертели те, четверо, из-за девки, на которую он сел. Но это теперь не имеет никакого значения. Нам ещё предстоит… – Каша не успел закруглить мысль, как машина резко затормозила, и они с Кашей упёрлись лбами в спинки передних сидений. Характерный хлопок говорил о том, что наш джип с кем-то «поцеловался».
23. У поэтов отчеств не бывает
Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того – лучшую его часть.
И. Ильф, Е. Петров. «Золотой телёнок»
– Что случилось? – испуганно спросил Каша, вернувшись в изначальное положение, когда машина встала как вкопанная посреди городской, мерцающей уличными огнями ночи.
– Чуть не задавили кого-то, – прошептал я, кивая вперёд, на дорогу.
– А может, и задавили, – предположил Буля и выскочил из машины.
Мы последовали за ним.
На дороге, перед джипом, подымался с асфальта окровавленный мужчина в кургузом пиджачке. Был он крупного телосложения, сутул, в густой торчащей дыбом папахе волос, дремуче не брит. В одной руке он держал туго набитую, бомжацкого вида, холщовую сумку, точнее, мешок с верёвками ручек-держателей, в другой – авторучку.
– Жив? – спросил Буля, помогая потерпевшему встать на ноги и заглядывая ему в освещённое фарой лицо.
– Жив, жив, – пробурчал тот, – что со мной может случиться?
– Он же в крови весь! – испугался подоспевший Каша. – Где наша аптечка?
Раскрытая автомобильная аптечка была в моих руках, а прекрасная Елена уже стремительно распечатывала пачки с бинтами, ватой… Кровь сочилась у потерпевшего из шишковатой, грязной раны над бровью.
– Надо «скорую» вызвать, – сказал я.
– Не надо никого вызывать, – отшатнулся старик. Да, это был старик согбенный. Но крепкий, кряжистый. Он увернулся от пытавшейся оказать первую помощь Елены, оттолкнул локтем Булю и удивительно резво засеменил прочь, в сторону от машины, подальше от нас. У тротуара мы настигли его.
– Нельзя так, – сказал Буля, – не дети же мы все тут. – Ну-ка, вот здесь светло. – И мы припёрли старика к столбу под фонарём.
– О-о! – взвыл он, когда Елена коснулась бинтом его раны.
– Неженка! – ласково корила бомжа Елена. – Ещё, ещё секундочку! – А когда окончательно перевязала его и поставила пришедшийся прямо ему на лоб смешной бантик, сказала: – Нет, надо всё-таки обработать получше, в нормальных условиях.
– В травматологию его! – решительно определил Каша, на что старикан неодобрительно заворчал и вновь попытался освободиться от нас. Но Буля-Булатыч держал его крепко.
– Ко мне поедем, – сказал он. – Но сперва в аптеку. – Он всё оценил, взвесил и принял решение, которое мы, в том числе и Елена, которой вроде было «пора домой», оспаривать не стали. Бомжарик наш не переставая ворчал, но уже не сопротивлялся.
– Что у тебя там? – кивнул Буля на его сидор, когда тот неуклюже полез с ней в машину. – Давай в багажник положу.
– Не-е, – отказался старик. Он сунул авторучку в карман и, обняв своё позвякивавшее богатство в холстине, устроился по правую руку Каши на краешке сиденья, как большая причудливая птица на курином насесте.
Ещё во время перевязки, на тротуаре, под уличным фонарём, выяснилось, что мы незадачливого пешехода вовсе и не шибанули своей машиной. Можно сказать, просто упёрлись в него, призраком возникшего на нашем пути, точнее, вылетевшего из-за автобуса и клюнувшего носом прямо у нас под колёсами. Да, он был пьян. Не сильно, но и не слегка. Нормально для его категории персонажей. Такие, кстати, так просто не падают.
– Каким образом тебя угораздило-то под колёсами оказаться? – расспрашивал в пути несуразного пассажира Буля, полуоборачиваясь к нему. – Чуть ведь не задавил тебя в лепёшку. Как успел среагировать?! Зазевайся на мгновение – и всё, хана!
– Споткнулся у автобуса, – рокотал в ответ птицеподобный пассажир. – А там как-то вынесло на дорогу. Да и не удержался, нырнул… Ладно, бог миловал.
– Но я же слышал хлопок.
– Это ты сумку мою трахнул.
– Что у тебя там?
Старик заглянул в неё:
– Теперь уже ничего. Практически.
– А теоретически? – сострил Каша.
– У меня теория с практикой не расходятся, – ответил наш новый знакомый.
Его звали Борисом.
– А по отчеству? – спросил я.
– У поэтов отчеств не бывает, – ответил с достоинством бомж.
– Вы поэт? – удивилась Елена.
– Да.
– Что-то не очень похоже.
– У нас в стране нет возможности быть похожим на себя.
– Вообще-то, всё возможно. Не зря же и авторучка в руке была.
Каша шепнул ей:
– Авторучка – да… Но ты ещё, наверное, думала, что все поэты ходят в плюшевых курточках и с шёлковыми шарфиками на шее?
– Нет, почему? Но, согласись, как-то странно…
24. Верста
– А я, ваше благородие, с малолетствия по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать – сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверьками дикими, в пустынях жил со львы лютыими; слеп был и прозрел, нем – и возглаголал.
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Губернские очерки»
У себя дома Буля меня удивил. Он с такой заботой отнёсся к своему невольному гостю, будто это был отец его родной.
Рану бедолаге заново и тщательно промыли. Прекрасная Елена своими божественными пальчиками её обработала, наложила какие-то мази, аккуратненько перебинтовала. Затем Буля затолкал слегка пропахшего вольной жизнью поэта отмыкать в ванну, приправленную морской солью, со словами:
– Перевязку не замочи.
Было уже за полночь. Пока именитый гость купался, Буля принялся организовывать чай, но Елене всё-таки надо было домой. Ограничились апельсиновым соком, минералкой. Буля взялся за поиски своей дорожной куртки, чтобы отвезти Елену, но Каша сказал, что лучше, если он останется дома и будет сам возиться со своим новым другом.
– Её я сам отвезу.
– Ты же пил сегодня.
– Когда это было! – хмыкнул Каша. – Знаешь ведь, мой желудок за полчаса канистру бензина в кефир превратит. И никакого запаха не останется. Хо-о, – дыхнул он на дядьку. – А? Понял? Так что, одна нога здесь, другая там, моментом вернусь.
– Не надо мне моментом, – поморщился Буля. – Хватит на сегодня моментов. – Он протянул Каше документы и ключи от машины. – Чтобы сорок-шестьдесят кэмэ в час, в соответствии с дорожными знаками, понял?
– Понял, Булатыч, какие разговоры!
– Ты там, Елен, следи за ним, чтоб не превышал, – посоветовал я. Мне было почему-то грустно, зато Каше весело. Он удалился с красавицей, поигрывая ключами от машины.
Гость из ванной выбрался нескоро. В Булином тренировочном костюме, шлёпанцах, с большим, махровым полотенцем на шее, он походил больше на футбольного тренера английской премьер-лиги, чем на нашего не высших сословий соотечественника. Он прямиком подошёл к полкам с книжным богатством и, пока хозяин сервировал на кухне стол, принялся со знанием дела извлекать из тесных рядов том за томом и, многозначительно хмыкая, листать их. Я полулежал в кресле с газетой в руках. Он меня не замечал. Он утопил свой эллинский нос в книге и теперь уже больше походил на профессора из старых, классических времён.
Вид у него, и точно, был профессорский. Вернее, не вид, а весь облик, образ, начиная со взрыва из-под бинта эйнштейновской шевелюры, античного носа, интеллигентной сутулости, не считая загрубелых, ухватистых рук с прокуренными, жёлтыми пальцами, удивительно умело и бережно гулявшими по страницам книг. И был он не так стар, как мне показалось сначала. Шевелюра его была пегой – наполовину, через, так сказать, волосок, седой; под зарослями бровей бегали по чрезвычайно любопытным для него строкам живые, по-детски заинтересованные глаза, цвета чистого майского неба. И ни облачка в них, ни тревожности, которые обычно нагоняют на людей возраст, проблемы и неопределённость завтрашнего дня. Ему бы ещё побриться гладенько и затем хоть объявление подавай: «Мужчина в расцвете интеллектуальных сил ищет себе понимающую подругу на пути к высотам науки и поэзии». А может: «…справедливости и поэзии». Но «поэзии» – это точно. В его руках, как белый голубь крыльями, взмахивал страницами томик Элюара, когда нас позвали к столу.
– Перекусим, – сказал Буля, рассаживая нас. – Да и по рюмочке теперь не грех. – Он взял хрустальный графинчик с хрустально чистым содержимым и наполнил на высоких ножках, такого же хрусталя, рюмки. На закуску были солёные грузди и маринованные, пупырчатые огурчики, тонко нарезанный янтарно-рубиновый балык, копчёное мясо дольками, и в кастрюле на газовой плите булькала картошка.
Мой друг с детства любил яблоки. Частенько со школьного двора после футбольного матча мы лазали в соседние яблоневые сады утолить жажду. Он поедал различные ранетки, золотые наливы, а по осени – ядрёные антоновки вёдрами. С тех пор пристрастие его не изменилось. Посередине стола возвышалась ваза с зелёными, крупными яблоками.
Гость наш оживился, двумя пальцами взял рюмку за ножку, выжидающе поднял глаза на хозяина квартиры, тот не заставил себя ждать:
– Ну что, Борис… – И тут же перебил себя: – Но фамилии-то у поэтов бывают? Или псевдонимы?
– Верста, – ответил он.
– Верста? – переспросил Буля.
– Да, Верста.
– Значит, поэт Борис Верста?
– Точно.
– Что-то не слыхал такого, – сказал я.
– Это не меняет дела.
Я пожал плечами.
На это непризнанный поэт, продолжая держать на весу готовую к употреблению рюмку, сказал:
– Вы слышали звезду под названием Бетельгейзе?
– Нет, – ответил я.
– И ей от этого, замечу, ни жарко ни холодно. Она от этого не перестаёт быть звездой. Согласны? Кстати, она почти в тысячу раз больше Солнца.
– Один – ноль! – сказал я.
– А некоторых звёзд вообще не видно, – продолжал добивать меня поэт. – Свет от них ещё не дошёл до Земли.
«Два – ноль», – сказал я про себя, а вслух произнёс:
– Не хотел вас обидеть, честное слово, просто как-то с языка сорвалось то, что должно было остаться в ящике. – И постучал себя по макушке.
– Ладно, ладно, – одёрнул меня Буля и проинформировал гостя, что я тоже человек творческой профессии – художник, живописец, и что свет моих произведений тоже ещё не дошёл до всех жителей Земли.
– Вот и тост сформировался, – обрадовался залётный, привзмахнув рюмкой, как дирижёр палочкой.
– Верно, – сказал я, поднимая свою хрустальную мерку, – выпьем за то, чтобы наш потребитель не сидел без излучаемого нами света.
Верста, закинув голову и не касаясь губами рюмки, одним глотком опорожнил рюмку, закусил пупырчатым огурчиком, затем намазал сливочного масла на хлеб, накрыл красной долькой балыка и стал неторопливо жевать-пережёвывать, будто демонстрируя, что такая пища в бомжацком рационе обычное дело. Откровенно говоря, я думал, на еду он накинется со зверским аппетитом. Ошибся.
Буля сочно хрустнул яблоком и, немного погодя, спросил:
– А в паспорте тоже записано: Верста?
– Нет, в паспорте я – Версто-о-ов, – с удвоенным ударением ответил гость, разглядывая чернильную авторучку, которая была у него в руке после столкновения, и пробуя её дееспособность на салфетке.
– Верста, выходит, псевдоним, – сказал я. – Борис Верста… Красиво.
– Ты, наверно, недавно в нашем городе? – сказал Буля и, слив горячую воду из кастрюльки, высыпал парящуюся картошку в большую тарелку, чем привёл Версту в неописуемый восторг. – Просто я всех здешних поэтов вроде бы знаю, – продолжил он свою мысль.
– Верно. – Гость отложил авторучку, взял вилку и пошёл на картошку в штыковую. – Здесь, у вас в городе, я всего второй месяц.
– Откуда родом-то? – спросил я.
– Из Кемерова.
– Сибиряк, значит.
– Да.
– А знаешь, откуда название «Кемерово» происходит?
– Знаю, с татарского это значит «уголь». Кумер – уголь. Угольная у нас область. Одно слово: Кузбасс! Но я давно уже там не был. Как уехал лет тридцать назад Москву покорять, так и всё, как отрезали.
– И покорил?
– Москву-то? Скорей она меня. Хотя, что Москва, география моей жизни гораздо шире. От Питера до Анадыря, от Диксона до Бухары… За большими рубежами вот не был, жалко, конечно, но всю страну, ещё не развалившуюся, вдоль и поперёк исколесил.
– Булатыч наш тоже всю страну объездил, – кивнул я на Булю. – Он ведь у нас шайбист. – Гость не понял. Пришлось пояснить: – Хоккеист, чемпион страны, мира и Олимпийских игр и вожак наших «Белых Волков». Команда у нас так называется, хоккейная, – «Белые Волки».
– Капитан их, что ли?
– Всю-то страну вроде бы всю, и не только страну, – произнёс задумчиво Буля. – А подумать так, что я видел, кроме вокзалов, аэропортов и Дворцов спорта? – Он взял графинчик и разлил по рюмкам. – Где, дружище, в нашем городе-то остановился?
– Да нигде, можно сказать. – Он сделал свободной от рюмки рукой беспечный жест. – Для нашего брата под любым кустом, как там у классика, всегда готов и стол, и дом.
Этой темы из соображения особой деликатности мы с Булей больше не касались, как и вопроса о его семье, жене, близких и т. д. После второй рюмки он сам стал рассказывать, но больше о своих друзьях, великих соратниках пера, встречах с ними, приключениях. Буле всё это было чрезвычайно интересно, он слушал, зачарованный, как ребёнок. А Верста и рад стараться. С этим живым классиком он выступал на поэтическом вечере в Центральном Доме литераторов, с тем он два месяца вдохновенно приносил себя в жертву Бахусу, у того полгода жил и беспробудно писал стихи, а с той, да, да, знаменитой шестидесятницей, путешествовал по городам и весям севера России. По его словам, он был на короткой ноге с Львом Гумилёвым (даже ходил с ним в экспедицию на Алтай), Астафьевым (гостил у него на Енисее, нет, не в Красноярске, а позже, в его Овсянке, в скромном, бревенчатом пятистенке), а с Колей Рубцовым живал в одной комнате общаги… Из художников? Знал Виктора Попкова, а ещё Евдокию Сидорову.
– Чудесную живописицу. Сибирячку. Она работает в стиле примитива, декоративно-лубочного такого… Но картины у неё, я вам скажу, сказочной кисти. Живёт в богом забытой деревушке и творит, творит… А так, художников я меньше знаю, но живопись люблю. Может, и ваши картины, судьба решит, увижу.
Ко мне, как и я к нему, он обращался на «вы».
25. Не променяю никогда
– Что такое импрессионизм?
– Это когда много баб и солнца.
Из услышанного
За окном громыхнуло и полило как из ведра.
– Что за май такой? – оглянулся Верста на открытое окно. – То солнце нещадное, то ливень безбожный. Такая зависимость от капризов природы! – Он потрогал свой варяжский нос, потёр поясницу. – И с годами ведь всё сильней эта зависимость.
Буля подошёл к окну, выглянул в ночь:
– Что-то Руслана долго нет. – И захлопнул створки.
– Дело молодое, – заметил гость, взглянув на допотопные наручные часики, и вкрадчиво поинтересовался о Каше с Еленой. Буля сказал, что Руслан Кашапов – его партнёр по тройке. А Елена…
– Мы с ней только сегодня познакомились.
– Серьёзно? А такое впечатление, что она в вашем кругу уже много лет. – И добавил: – Верное имя у неё. Соответствующее.
По мобильнику Каша сообщил, что скоро будет. Буля успокоился, плеснул из графинчика ещё по рюмке.
– Борис, своих книг, изданных, много?
– Всего одна. Я ведь часто переезжал с места на место, а чтобы выпустить в свет книгу, надо в одном городе жить долго. Ну, как долго? Не меньше года. По газетам, журналам, альманахам публикаций достаточно. Свою эту единственную книжку, что интересно, я увидел через пятнадцать лет после её рождения. Как получилось? В Красноярске подготовил рукопись стихов и отдал одному хорошему другу-поэту, сидевшему в книгоиздате в немаловажном кресле. И так получилось – уехал. Опять же в Красноярске объявился только через полтора десятка лет. А там мой друг с моей живой книжкой. Протягивает мне… Вот это было – да-а! Ради такого стоит на белый свет явиться, друзья мои!
– Друг у тебя, получается, отличный.
– Точно!.. Но и стихи неплохие, – показал в улыбке свои лопаты зубов поэт.
Я поинтересовался:
– Толстая книжка-то?
– Не-е… Тощенькая такая, в мягкой обложке.
– Хоть один экземпляр остался? – опять спросил я.
– Где-то остался, а при мне нет.
– А ты прочти что-нибудь на память, – сказал Буля.
– Да? – Верста задумался на секунду-другую, кашлянул в кулак и, чуть склонив большую голову набок, начал своим шершавым, прокуренным голосом:
Не променяю никогда
рубаху белую
на чёрную…
Честно говоря, я не очень-то верил, что наш бомжацкой корпорации гость может быть настоящим поэтом, и даже думал, что он откажется продемонстрировать свои поэтические способности, сославшись на травму, отсутствие памяти (и книжки своей под рукой нет), да мало ли других весомых и правдоподобных поводов отмолчаться. Может быть, это сомнение и порождало моё какое-то снисходительно-терпимое отношение к нему. Пой, дескать, соловушка, пой. Но я, оказывается, ошибался. Это стало ясно по первым же высоким поэтическим нотам, сипловато взятым Верстой посреди ночи у Були на кухне.
Он читал нам о не запятнанной белой рубахе, в которой представить себе его было нелегко, и, странное дело, я верил ему. Вот в ней, белоснежной, топит он баньку (откуда она у него, перекати-поля-то?) и вдруг пачкает в саже, которая легла на грудь «строкою жжёною». Тут завязка стихотворения. А развязка в том, что речь, конечно же, шла вовсе не о рубахе. Речь шла о душе и вдохновении.
Я, конечно, не самый большой знаток поэзии, но в данном случае… Для верности я взглянул на Булю, нашего профессора кислых щей, и по его сияющей физиономии убедился, что не ошибся: перед нами в небритом, перебинтованном, лохматом обличии восседало на табурете нечто, не скажу, талантливое, но, безусловно, подлинное и необычное.
– Откуда Волга-то у тебя взялась? – спросил Буля. – С одной стороны, ты сибиряк, с другой – странник, а тут, в стихотворении своём, – осёдлый волжанин?
– Его же я в Ярославле написал, на даче одного начинающего поэта и законченного спекулянта, хотя таких сейчас бизнесменами принято называть. Представляете себе, на высоком волжском берегу двухэтажный особняк, теннисный корт, баня, уж не говорю: помидоры-огурчики, яблони-вишенки на участке… И в резной беседке, в тени вьюна, ваш покорный кропает своё… И не своё тоже. Я там его, этого проходимца, поэмку одну до ума доводил, к печати готовил. Кушать-то хочется.
– А рубаху белую запятнать не побоялись? – спросил я.
– С какой стати? Свою работу я исполнял честно и профессионально. На чужом хребте в райскую жизнь не въедешь.
– Зато другому способствовали в этом. И сообща с проходимцем вводили в заблуждение читателя.
Буля перебил нас:
– Почитай ещё, Борис.
– Устал, – поморщился он и поднялся со стула. – Откуда, Булатыч, у тебя столько книг?
Мы с Булей тоже снялись со своих мест и неспешно пошли по комнатам квартиры, в которой практически по всем стенам подпирала потолки уникальная библиотека.
– Собрал потихоньку, – ответил Буля на праздный, с моей точки зрения, вопрос.
– Собрал? – удивился Верста. – А я думал, может, по наследству досталась.
– Почему это?
– Подобрана уж больно ладно, со старинными фолиантами и не по твоему, прости меня, Булатыч, профилю. Ты же хоккеист. А тут…
– Что тут? По-твоему, хоккеист не может интересоваться серьёзной литературой?
– Я этого не говорил, но, согласись, это не характерно для твоей профессии. И ты в данном случае – исключение. Я бы даже сказал: откровение для меня. Извини, но циничный вопрос: ты по натуре своей собиратель или читатель?
– У нас в семье всегда было много книг. И я рос среди них. И читал. И сейчас без чтения я не представляю себе…
– Понятно… Но если б в моём доме с детства было такое количество книжек, у меня бы к ним, как к привычному декору, развилось равнодушие. А это чья картина? – прищурил левый глаз Верста, прицелившись на полотно моей работы, изображавшее большое, всё в инее разлапистое дерево и рядом озерцо, на утреннем льду которого скрестили клюшки над шайбой две крохотные детские фигурки. Картина приютилась в одном из редких проёмов, свободном от книг.
– Это – произведение выдающегося художника современности Марата Салмина, – с пафосом произнёс Буля. – Прошу любить и жаловать.
– Ладно тебе, – снял его руку я со своего плеча.
Верста посмотрел на меня, точно оценивая, соответствую ли своей работе, затем опять на полотно:
– Недурственно, очень даже недурственно, скажу я вам, – тоном академика живописи протянул Верста. – Светлая картина. Да-а, всё у нас, что связано с детством, светло и чисто. Кто-то из этих юных хоккеистов, должно быть, ты, Булатыч, а другой – автор картины, а?
Буля одобрительно кивнул головой, пояснив кратко:
– Одно время мы с Маратом бегали на озёра за нашими домами. Уже к концу ноября они покрывались крепким льдом и превращались в десяток чудесных хоккейных площадок…
– Сейчас там давно уже ни озёр, ни лугов, всё застроили, – заметил я.
Верста был внимательным слушателем. Ему всё было интересно: и про картину, и про хоккейные краги на вешалке, и про золотые, серебряные медали, кубки и прочие спортивные награды хозяина квартиры, и про его детство в плюшевом альбоме, но всего интересней для него всё равно оставались книги, и он время от времени окунался в них, продолжая быть внимательным и не упуская нити неспешной нашей беседы…
Потом, возвращаясь к разговору о моей картине, он заметил, однако, что реализм по большому счёту его не столь волнует.
– Шишкин, Репин, Суриков не художники, по правде говоря, а старательные копеисты. Копеисты живой природы. Я имею в виду и человеческую природу. Мне надо, чтоб человек был показан изнутри. Огонь, мерцающий в сосуде, чтоб, а не сам сосуд, в котором не знай что.
Вернулся Каша. Мы все опять сели за стол. Предметом внимания, безусловно, стало долгое отсутствие нашего донжуана.
– И что, проводил?
– Это и есть одна нога здесь, другая там?
Каша вяло, в своё удовольствие оправдывался, а затем предложил выпить:
– Не за чего иного, прочего другого и не за ради приятства, а за единое единство нашего и дружного компанства!
Поэт аж языком цокнул и пегой своей шевелюрой встряхнул. Я поинтересовался:
– Из вятского запасника, что ли?
– Не знаю, – ответил Каша и, пошкрабав пятернёй в затылке, что означало крайнюю степень довольства жизнью, выпил.
Мы поддержали… На сей раз наш почтенный гость закусил странным образом – скучил хлебные крошки на столе, умело взял пальцами, как узбек плов, и кинул в рот.
– Так вот, – продолжил он прерванный приходом Каши разговор, – реализм – это всего лишь ученичество в истории искусства. И живописцы наши из поколения в поколение выкарабкаться из этого ученичества не могут. Ни тпру, ни ну – застряли, как второгодники. А пора бы подняться на настоящие высоты. Конечно, есть отдельные прорывы – Пикассо, Северини, Кандинский, Малевич, австриец Фукс. Но…
– Но это касается только живописцев? – поинтересовался я. – Или реализм – это ликбез для всех в широком смысле слова художников, в том числе и поэтов?
– По моему раскладу – только живописцев. Писатели право на реализм всё-таки имеют.
– Интересно, почему такая несправедливость?
– Не знаю, пока не могу объяснить. Но я так чувствую.
Тут вставил своё слово Каша:
– А хоккей – это реализм?
– Нет, хоккей – чистой воды абстракция. То есть искусство высшего порядка. Вот, если говорят, архитектура – застывшая музыка, то хоккей, как и футбол, баскетбол, регби, – это визуальная музыка. В движении.
– Здорово! – Это Буля. Он взял омелевший графин, оценил ватерлинию и пошёл к себе в комнату за добавкой.
Я спросил Версту:
– Как же это ты так вылетел из-за автобуса? Не похоже, что просто споткнулся.
– Толкнули.
– Кто?
– Да-а… – махнул он рукой. И в свою очередь спросил: – А баба-то у него где? Вроде, фотографии вот её с сыночком вижу, кивнул он на книжный шкаф, за стеклом которого теснились среди прочих несколько семейных фотографий.
– Развелись они, – ответил я.
Появился Буля с восстановленным в статусе графинчиком.
Спать легли уже не поздно ночью, а рано утром. Верста ещё курил свои вонючие сигареты в лоджии, затем долго-долго кашлял за стеной, в специальной комнате для гостей, которые здесь, у Були не переводились.