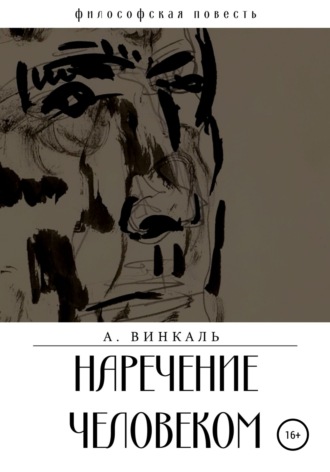
А. Винкаль
Наречение человеком
Человек безучастно наблюдал. В голове его роились тысячи догадок, тысячи ответов, которые, увы, он не мог передать словами несчастной.
Однако же его поразило, как изменилась девушка с момента встречи. Как хладнокровно было её лицо тогда, когда тело изнывало болью, расходилось по швам, обнажая алые проталины. И какое отчаяние охватило её ныне, когда на душу пала ничтожная тень сомнения и сокрыла под собой все прежние привычные устои веры. Пошатнулись опоры – полетел кувырком вековой уклад.
«Сладка моя жизнь – она не ведала законов», – подумал человек.
Глава 6. Нарыв
Двое людей двинулись в путь.
Дорога их длинна, цель не близка. Кочевники не зря приютились у подножия гор – никто их не мог тронуть: ни звери – те скорее опасались падких до охоты переселенцев, ни люди. Девушка говорила чистую правду: до ближайшего города требовалось преодолеть даже не сотню миль, а несколько сотен – таковы были точные значения. Расстояние немалое.
Не прошли они и половины пути, как силы их начали угасать, и люди еле волочили по грязной земле свои дряблые ноги. Полуденное солнце иссушивало тела, выжимало из нежной кожи все соки. Пот заливал веки. Миновав плоскогорье, путники очутились среди дерев; отовсюду измождённые тельца обступала густая зелёная чаща.
«Бесконечные дебри! Нет им конца», – сердился человек, переступая через попадавшиеся под ноги коряги и сучки. Каждый новый шаг давался ему с трудом. Никогда не ступала здесь нога человека, никто ещё не ходил этой дорогой, ни одного следа не виднелось на земле, и не за кем было следовать. Холодная свирепая чащоба господствовала в гордом одиночестве.
Впереди замаячила груда каких-то обломков. Путники пригляделись и оторопели, силы окончательно покинули их.
Девушка упала на колени.
– Бурелом!
Человек не повёл и бровью: преграда не поколебала его решимости.
Близился закат. Порешили заночевать у бурелома, укрывшись под поваленными деревьями.
Ночь выдалась беспокойной и отнюдь не по причине журчащего желудка и изнывающих голеней. Что-то заныло внутри человека, пока тот укрывался листьями да сучьями, сооружая себе ночлег. Разум его возвратился к тому, что прежде ему хотелось отбросить, оставить до прихода в город, где уж он взялся бы за вскрытие – истина стала нарывать раньше, невыносимо нарывать! Вскрыться сейчас, сию минуту, ждать более нельзя, иначе путник погибнет! Не дойдёт, не доползёт до источника жизни, к которому и идти-то не надобно: он тут вот, в нём самом.
Тягостно изнывали мысли: в чём заключается ответ, отчего он так живёт, отчего пребывает в мире, в самом себе? И вот он бредёт, бредёт и придёт ли куда-либо – кто знает? Не сотворит, не свершит задуманного – и к чему потрачены силы? А быть может, и того хуже: свершит и разочаруется – отчается в себе, не пожелает возобладать над собой, взыщет славы другого и преклонится пред ним[5]. О ужас!
Вопросы подступили к горлу человека, врезались в шею, словно петля, и душили, душили. Человек схватился за горло и хрипло задышал. Рана нарывала.
– Сальваторис! – кричал человек подбегающей взволнованной девушке. – Сальваторис! Сочится, сукровицей сочится.
– Где, где, человек? Где? – взгляд её испуганно бегал по телу несчастного в попытках отыскать рану.
– Во мне, во мне она нарывает! – слёзы навернулись на глаза человека. В бешенстве он метнул в сторону сук, из-под которого струёй брызнула кровь.
– Боже мой! – Сальваторис метнулась в сторону, сорвала пару листьев с деревца и стала прикладывать к боку человека. – Боже мой, боже мой…
– Долго… слишком долго мы шли… Нет! Слишком долго я шёл: падал, взбирался, падал, вновь взбирался, шёл, тащил телесность… А душа-то! Душа – она не ждёт! Нет, не ждёт! Затянулся мой поход, Сальваторис.
– Да что же ты, что же? Мы и половины не прошли того, что наметили. Как же твои слова? Вспомни, как там… «…и находясь при последнем издыхании, не имея сил в себе, я…»
– …Я положусь на силу, что полагает меня, – докончил человек и зарыдал. – Да с чего… да с чего, скажи мне, я решил, что знаю, что за сила такая полагает меня? То я сам или что иное? Не знаю! Ничего не знаю и не хочу знать. Одного желаю, самого сокровенного, того, что долго теплилось во мне, а теперь вдруг взыграло, всполошило душу, а с ней и тело: почему… для чего… нет, отчего я есть? Вот то, что я так явственно переживаю день ото дня, что живее и ощутимее всего прочего в мире – отчего, отчего оно? Над чем ты так безжалостно глумилась, то есмь моя сущность, которую, кажется, мне не дано разгадать никогда!
– Тише, тише, – успокаивала девушка и ласково гладила рукой по осунувшемуся лицу человека. Вспоротый древесным суком бок опух и наливался краской. Кровь никак не желала останавливаться.
Сальваторис сложила руки в молитве. Ей ничего не оставалось делать, кроме как, чтя обычаи предков, по-язычески молиться за упокой души пострадавшего – другого пути, по мнению девушки, у человека не оставалось. Ослабленный организм не поборет болезни, а значит, рана воспалится и погубит его окончательно.
К утру боль поутихла. Человек лежал смирно, укрытый листвой. Подобрав под себя ноги и обхватив их руками, он равнодушно поглядывал в сторону восхода. По лесу простирался сизый туман, негромко посвистывали утренние птицы. Прислонившись затылком к стволу хвойного деревца, дремала уставшая Сальваторис. Капельки мелкой испарины блестели на кончике её носа; девушка уснула недавно. Привлечённые запахом пота, к лицу её припали насекомые-паразиты, жадно посасывавшие свежую кровь, – пребывавшая в забытье Сальва не замечала их. Она истратила всю ночь на больного, то прикладывая к ране свежие листья, то бегая к лесной речке, оказавшейся вблизи их ночлега, набирая во что придётся воды и промывая порез от сука. Наконец сон сморил её: она уткнулась головой в первое попавшееся дерево да так и заснула.
Взгляд человека блуждал по телу девушки. Губы его разомкнулись, и он слабо выдавил из себя невнятный хрип – слово не вышло. Собравшись с силами, он кликнул второй раз. Теперь звуки собрались во фразу: «Сальваторис». Ответа не последовало. Опираясь на локоть, человек приподнялся и подполз к девушке. Рука его опустилась на тощее плечо, выглядывавшее из-под одежды. Девушка вздрогнула. Веки открылись. Несколько мгновений она растерянно глядела на человека, затем лицо её приняло строгий вид, и, потирая ноющий затылок, девушка встала.
– Как ты себя чувствуешь? – она прикоснулась губами ко лбу человека и заметно оживилась.
– Недурно.
– Нам пора, – и Сальваторис двинулась через бурелом по направлению к реке.
У реки путники вдоволь напились, перебрались через неё вброд. За рекой неожиданно для них лес начал редеть, а потом и вовсе кончился. Путники вышли на равнину; вопль радости огласил просторы: впереди виднелись черепичные крыши одноэтажных домиков, дымились трубы, слышались людские голоса. По великой случайности, не имея средств ориентирования и, в конечном счёте, отклонившись от намеченного маршрута, путники набрели на предместье того далёкого города, куда они сперва держали путь.
Глава 7. Родная кровь (эпизод из предыдущей главы)
Она спасла его, вновь подняла со дна. Она – Сальваторис, девушка-богиня, подруга жизни и мечты. С течением времени человек всё более сознавал, каково это – находиться бок о бок с родственной душою. Подвергаясь испытаниям, вскрывая собственную душу, он нередко томился желанием позабыть себя и увлечься другим. Подчас ему хотелось отдаться чувству, которому он больше всего в жизни боялся дать волю: преклониться пред чужим человеком – о, какой страх!
– Друг мой, благодетель мой, на что я такой уродился? – изнемогая под покровом поваленных деревьев, человек размахивал рукой, вцепился в платьице Сальваторис, потянул к себе.
– Господи, – Сальваторис подошла и положила руку на разгорячённый человеческий лоб. – Жар…
– Дай мне к тебе прижаться, родная кровь моя, дай в тебе забыться, дай захлебнуться в невозможной для меня любви, Сальва, – умолял человек. – На дно падёт не каждый. А я – я пал, я отрёкся, хоть и не помню того. И всё это во имя… Во имя себя, но и во имя родителя человеческой жизни, а теперь покинут, оставлен им…
Лицо девушки исказилось от жалости.
Всю оставшуюся дорогу человек и Сальваторис более не разговаривали: каждый чувствовал себя виноватым перед другим и потому не смел произнести ни слова. А сердце человека не замолкало ни на секунду. Всё чаще и чаще оно билось в груди с неодолимой силой. Природное чувство возгоралось в путнике; всё его естество, столь далёкое от безукоризненной природы разума, желало Сальваторис – как женщины и как матери. Душа, угнетённая тяжкими мыслями, хотела освободиться от ноши, томилась по нежной ласке, искала приюта. Здесь не было страсти, не было грубой похоти, совершенно не свойственных душевным порывам. Здесь было самозабвение и жалкая детская беспомощность. Храбрость воина переросла в малодушие.
«Сладка моя жизнь – она не ведала законов». О, как ошибался человек! Природа его ведала законы гораздо более строгие, чем те, под властью которых проносилась жизнь Сальваторис. Потому человеческая воля изнемогала, слабела и не находила в себе сил обратиться к голосу вечности, достигнуть наивысшей стадии сознания невозможности, чтобы в то же время обрести спасение. Так падают на дно, не сумев подняться.



