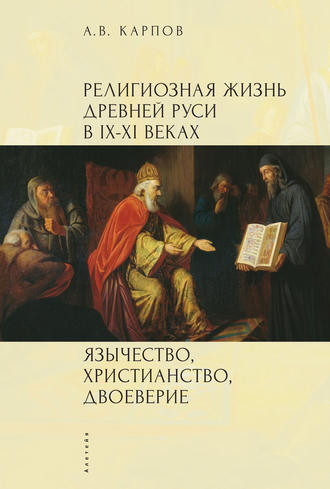
А. В. Карпов
Религиозная жизнь Древней Руси в IX–XI веках. Язычество, христианство, двоеверие
Опыт специального исследования темы «язычество в православии» был предпринят в середине 1970-х гг. Г. А. Носовой. В одноименной монографии она обратилась к «прошлому и настоящему православно-языческого синкретического комплекса, который сложился в быту»[105]. Общие выводы автора сводились к тому, что «в процессе проникновения в толщи масс изменялся облик самого православия, шло его “оязычивание”, приспособление к жизни народа»[106].
В связи с подготовкой празднования 1000-летия крещения Руси появилось значительное количество публикаций, посвященных распространению христианства в Древнерусском государстве. Были предложены некоторые новые подходы к изучению средневековой религиозности. Так А. Н. Ипатов в работе «Православие и русская культура» отметил, что долгое время вопрос о православно-языческом синкретизме рассматривался «как вопрос о двоеверии, т. е. механическом соединении языческих и христианских элементов». Однако двоеверие как таковое, – по его мнению, – было присуще периоду, когда христианство целиком еще не определяло мировоззрения Руси. В это время шло два процесса: христианизация древнерусского язычества и обрусение христианства в его греко-византийской форме, которые привели в конечном итоге к одному результату – к образованию новой формы православия, названной впоследствии «бытовым православием»[107].
Н. С. Гордиенко, рассматривая вопрос о характере древнерусской религиозности, развивал концепцию Е. Е. Голубинского, указывая, что имело место длительное сосуществование христианства с язычеством: вначале в качестве параллельно функционировавших вероисповеданий, а затем в виде двух компонентов «единого христианского религиозно-церковного комплекса, именуемого русским православием»[108].
Наблюдения, высказанные в это же время Н. И. Толстым, были отчасти близки взглядам А. Н. Ипатова. Принятие христианства, по мнению Н. И. Толстого, вызвало не только и не столько «переодевание языческих богов в христианское платье» или частичную замену названий и форм языческих праздников христианскими, сколько «значительное усложнение народных мифологических, нравственно-эстетических представлений и средств ритуального и поэтического выражения и исполнения»[109]. Через несколько лет Н. И. Толстой более подробно изложил свои взгляды на проблему русской народной религиозности. Он отметил, что народное мировоззрение нельзя называть двоеверием, поскольку оно цельно и представляет собой единую систему верований. Христианство, по его представлениям, лишь частично уничтожило довольно свободную и в некоторых отношениях аморфную структуру язычества, поставило его в иные условия и подчинило своей значительно более высокой иерархии ценностей. Бытовое православие представило языческим персонажам статус «нечистой силы», противостоящей силе «крестной», чистой и преисполненной святости. Причем силы эти в народном сознании не равновелики, ибо воля Божия и промысел Божий господствует над всем и определяет все[110]. Понятие «двоеверие» оказывается ошибочным и потому, указывает Толстой, что если рассматривать вопрос с генетической точки зрения, придется признать не два, а три источника народной духовной культуры. Это, наряду с христианством и славянским язычеством, «ахристианство» – элементы поздней античности, мотивы ближневосточных апокрифов, восточного мистицизма и западной средневековой книжности, проникавшие в славянский мир извне совместно или почти одновременно с христианством[111].
Взгляды, достаточно близкие к упоминавшейся выше концепции Б. А. Рыбакова, были изложены в 1988 г. И. Я. Фрояновым, который писал: «Если поставить вопрос, что в большей степени определяло мировоззрение древнерусского общества – язычество или христианство, то можно, не боясь преувеличений сказать: язычество. Данный ответ обусловлен существованием на Руси XI–XII столетий оязыченного христианства, то есть “двоеверия”, с одной стороны, и чистого язычества – с другой. <…> И только позднее, на протяжении второй половины XIII, XIV и XV столетий, когда христианство окончательно утвердилось на Руси… язычество как самостоятельное вероисповедание отошло в прошлое»[112].
С других позиций подошел к изучению древнерусской духовной культуры А. Г. Кузьмин. Он предположил, что сущность двоеверия состояла в том, что и за язычеством, и за христианством сохранялись самостоятельные, достаточно обособленные сферы: «основное содержание язычества – обоготворение природы – сохраняется и на эту область христианство по существу не распространяется»[113]. Ю. В. Крянев и Т. В. Павлова рассмотрели изучаемую проблему с точки зрения закономерностей культурно-исторического процесса, исходя из положения о том, что «заимствование представляет собой включение элементов другой культуры в сложившуюся структуру культуры национальной, и критерием, обуславливающим их отбор, является содержание последней». По их мнению, «народное язычество не только не исчезло с принятием христианства, но, преобразовываясь само, оно также видоизменяло важнейшие обрядовые установления и догматические законоположения принятого христианства»[114].
Тогда же некоторые мысли по интересующей нас теме высказал Д. С. Лихачев. Он предположил, что двоеверие в принципе не могло существовать, «потому что вы не можете одновременно и верить в языческих богов, и быть христианином». Впрочем, он замечал, что «язычество не отрицательная величина. Оно представляет собой определенную культурную ценность, которая с принятием христианства не обесценивается, а поднимается на высоту иного миропонимания». Лихачев считал, что «в крестьянской среде христианство распространялось очень быстро. И это невозможно было при помощи меча, но возможно при помощи самого язычества, которое христианизировалось и делало понятным христианство»[115].
В серии интересных работ В. Г. Власова была высказана мысль о непосредственной взаимосвязи процесса усвоения христианской веры с переходом от языческого к христианскому календарю. По его мнению, юлианский календарь был принят русским крестьянством лишь в XVI столетии, когда языческая система календарных праздников, привязанная к сельскохозяйственным занятиям, сменилась типологически тождественной ее системой праздников христианских[116].
Ценные наблюдения, касающиеся становления древнерусской христианской культуры были выдвинуты в работах Т. А. Бернштам. Она полагает, что период до рубежа XV–XVI вв. был только первым этапом христианизации восточнославянских народов, отличительной чертой которого было преобладание апокрифического содержания вероучения, свойственного и официальному православию, и, тем более, его народной редакции[117]. По мнению Т. А. Бернштам, в «апокрифическом христианстве», в силу его полуязыческого-полудогматического характера, изначально была заложена синкретичность, т. е. та «универсальная сущность, которая помогала православию (как, впрочем, и любой монотеистической религии) реализовываться на уровне коллективного религиозного сознания»[118].
Особенности массовой религиозности средневековой Руси рассматривались в ряде публикаций А. Ф. Замалеева. Разделяя мнение многих предшественников о синкретической сущности двоеверия, он трактует его как «стихийный компромисс двух совершенно чуждых друг другу исповеданий: отвергнутой, но не побежденной, и восторжествовавшей, но не победившей»[119]. Язычество и христианство постепенно наслаивались друг на друга, и в процессе этого наслоения язычество получало стимул к дальнейшему развитию, а христианство – низводилось до уровня языческих понятий и преданий[120]. По его мнению, «предпосылкой такой синкретизации явилось уже то, что христианство на Руси с самого начала стало усваиваться не в евангельском, новозаветном, а в библейском варианте. Это было обусловлено содержательной близостью религиозно-мировоззренческих принципов ветхозаветной системы и славяно-русского язычества»[121].
С новой концепцией формирования русского средневекового христианского мировоззрения выступил в начале 1990-х годов А. Е. Мусин. Он отметил, что перед христианством на Руси, также как в свое время и в Византии, стояла задача освоения языческого наследия. Такое освоение было ничем иным как процессом религиозного творчества. Необходимо признать, что пережитки дохристианских верований, долгое время определявшиеся наукой как «контрабанда язычества в христианство», в действительности носили не конфессиональный, а общекультурный религиозно-психологический характер. «Подобные архаические представления, – по мнению Мусина, – допускались общецерковным сознанием лишь постольку, поскольку они не противоречили христианской догматике и нравственности». Поэтому «мировоззрение русского средневековья можно охарактеризовать как христианское, закономерно включившее в себя десемантизированные элементы предшествующей культуры и примитивные представления религиозной психологии»[122].
Изучению процессов становления христианской культуры в Древней Руси по данным археологии посвящены диссертационные исследования А. Е. Мусина[123]. По его наблюдениям, вещественные древности позволяют выделить в древнерусской культуре цельную систему ценностей, соответствующую христианскому мировоззрению, а «христианизация предстает в истории России как феномен религиозного творчества, переосмысливающий архаичные культурные традиции и включающий их в новую христианскую культуру»[124].
Близкие позиции занял В. М. Живов, который отметил, что проблема сочетания языческого наследия с христианским просвещением реализовывалась в русской культурной традиции по следующей модели: сознательная ассимиляция одних элементов в локальных христианских верованиях, сохранение других в качестве нечестивой магической практики и постепенная десемантизация третьих в результате смешения обычаев и обрядов разного происхождения[125].
А. В. Чернецов выступил в защиту традиционной для советской историографии точки зрения на двоеверие. Он подчеркнул, что христианская религия строго осуждает явления синкретизма. Поэтому нравственная оценка проявлений двоеверия была однозначна и бескомпромиссна. Однако то, что несовместимо с точки зрения средневекового книжника, в «реальной жизни наших предков могло совмещаться». По мнению Чернецова, явления двоеверия, в том числе и воплощенные в вещественных формах, были широко распространены и они весьма существенны для характеристики народной культуры[126].
Интересны, в этой связи и предположения В. Я. Петрухина. Он полагает, что «двоеверием» древнерусские книжники называли не религию, а магию, которая в современной культурной антропологии понимается как особая форма мировосприятия, не тождественная религии. Христианизация, отмечает Петрухин, мало затронула календарные и семейные обряды, магический характер которых и стал главным предметом церковного обличения[127]. Соответствующие сюжеты рассмотрел также В. П. Даркевич. Интерпретируя «двоеверное» состояние как «православно-магический синкретизм, отличный от книжного богословия видных мыслителей или просто образованных людей», он подчеркнул наличие разных уровней религиозного сознания «в пределах единой культуры-веры»[128].
Проблематика «двоеверия» как определяющего фактора русского самосознания была рассмотрена в серии статей Е. Ивахненко. Его позиция основывается на том, что «естественная» смена политеизма на монотеизм происходит лишь тогда, когда сам «языческий культ вызревает, стареет, обессиливает». На Руси Х столетия восточнославянское язычество еще не вошло в подобную фазу своей истории. Для него была характерна «высокая степень энергетичности и сопротивляемости… незавершенность (иногда и отсутствие) иерархии отношений между богами». Поэтому вплоть до XVI в. язычество продолжало развиваться, несмотря на расширение влияния христианской веры. Сложившаяся «ситуация двоеверия» закрепила в русском самосознании два слоя, «в каждом из которых особым образом протекает время и организуется пространство»[129].
А. А. Панченко в работе посвященной народной религиозности заметил, что «следовало бы называть двоеверием определенный период истории русской культуры – время, непосредственно последовавшие за распространением христианства». «Если признать закон самостоятельного воспроизведения фольклорных форм, открытый А. Н. Веселовским, и согласится с тем, что целостность и внутренняя стабильность суть важнейшие условия нормального функционирования и развития культуры, то можно предполагать, что двоеверие должно было сменится цельным и связным (хотя и вовсе не аналогичным догматическому учению) народным христианством»[130].
Проблематика народной религиозности в последнее время была обстоятельно рассмотрена М. М. Громыко. Она отметила ошибочность противопоставления православия народного и церковного, так как глубина веры определяется уровнем духовности, а не уровнем знаний о религии. Теории «двоеверия», «бытового православия», «обрядоверия», – отмечает она, – основаны «на преувеличении места языческих пережитков, неправильном отнесении к ним ряда обычаев, сохранившихся от раннего христианства или дохристианского монотеизма, а также представлений народной демонологии, не противоречащих православию»[131].
К полемике о двоеверии обращался и В. Н. Топоров. Согласно его концептуальным размышлениям, «двоеверие – один из способов достижения компромисса, когда каждый верующий и весь коллектив входят в обе религии, живут на обоих этажах, но хорошо знают, что Богу, а что кесарю, где кончается одно и где начинается другое. Но это двоеверие, актуальное в эпоху, когда язычество еще сознательно боролось с христианством за свое выживание и надеялось обойтись без компромисса, позже стало, если угодно, единой верой или точнее, неким цельным и систематическим мировоззрением и жизненным укладом, за которым стоит одна и та же единая нераздельная душа»[132]. «В язычестве всегда находится не только то, – подметил Топоров, – что преодолевается и/ или просто вытесняется, удаляется христианством как “большой” и “новой” религией, но и то ядро, тот неделимый фонд, который… “большая” религия не должна стремится отбросить, но вынуждена (иногда невольно и даже противовольно) включить в свое целое, так или иначе, учтя то, что для верующего люда уже давно стало неотъемлемым состоянием “народной” психеи, которая… предопределяет и матрицирует определенный религиозно-психологический тип и весь его жизненный контекст, отказаться от которого полностью невозможно и часто даже не нужно»[133].
Подобного рода социально-психологический подход нашел отражение и в диссертационном исследовании М. Г. Горбуновой. Она выдвинула положение о том, что «в русской культуре архаичные мыслеформы, существовавшие открыто в эпоху язычества, после утраты сознательной веры в славянских богов продолжали существовать в народном сознании в виде архетипов коллективного бессознательного»[134].
Продолжил исследования религии ранней Руси В. Я. Петрухин. В одной из новых публикаций он подчеркнул, что несмотря на средневековые церковные обвинения русских крестьян в двоеверии, «языческие пережитки на Руси были ассимилированы, как и повсюду в Европе, культами христианских святых, а боги стали-таки бесами, нечистой силой: волосатик и мокошка русского фольклора лишь по именам напоминают языческих кумиров Волоса и Мокошь»[135].
Последние шесть лет стали временем активизации изучения русской народной религиозности, преимущественно на основе феноменологической и культурантропологической методологии. Прежде всего исследователи обращались к современному периоду и материалам Нового Времени. Делались, впрочем, и определенного рода ретроспективные выводы о характере древнерусской религиозной жизни и проблеме христианско-языческого синкретизма[136].
Одновременно продолжалась публикация различного рода версий и реконструкций славянского и древнерусского язычества, далеких от научно-аналитического подхода[137], что весьма отрицательно повлияло на общественное восприятие религиоведческого изучения средневековой Руси[138].
В целом, в новейшей литературе наметились новые направления изучения средневековой русской религиозности. Но, несмотря на многочисленные концепции, исследование этой сложной и многогранной темы пока еще остается на уровне обобщающих наблюдений, не позволяющих всесторонне выявить реальное содержание эволюции религиозного сознания и мировоззрения древнерусского общества в эпоху введения христианства.
Подводя итоги обзора литературы, следует отметить, что вопрос о месте христианства и язычества в системе древнерусской религиозности редко становился предметом специальных монографических исследований. История изучения проблемы показывает, что она появлялась либо на страницах трудов, посвященных церковной истории, либо в работах, освещавших языческую религиозность; а также, в качестве частного сюжета, входила общие курсы истории России. Ценные теоретические наблюдения и огромный фактический материал, накопленный на протяжении двух столетий, не был полностью осмыслен и современной наукой. Задача системного анализа процессов становления и развития христианского мировоззрения в домонгольской Руси еще остается нереализованной. Поэтому научному сообществу предстоит приложить много усилий для комплексного решения этой многосторонней проблемы, используя методологию религиоведения и культурологии, наряду с достижениями вспомогательных исторических дисциплин.
Глава II
От политеизма к монотеизму: взаимодействие религиозных систем и традиционная культура
Основные черты древнерусского язычества
Не требует доказательств положение о том, что «без обращения к язычеству невозможно понять ни своеобразия христианизации Руси, ни важнейших идейных движений отечественного средневековья»[139]. Изучение древнерусского язычества началось еще в XVIII столетии и с различной степенью интенсивности продолжается вплоть до наших дней[140]. Следует заметить, что соответствующие изыскания касались преимущественно восточнославянских архаических верований и практически не затрагивали дохристианскую религиозность финно-угорских и балтских племен, вошедших в состав Древней Руси и принявших непосредственное участие в формировании единой древнерусской народности как этнокультурной и социально-политической общности.
Подлинно научное осмысление феномена древнерусского язычества и его места в истории русской культуры приобрело сегодня и самостоятельную общественную значимость, т. к. последние десятилетия характеризовались появлением многочисленных неоязыческих доктрин и организаций, использующих не только разнообразные варианты гипотетических «пантеонов», но и такие сочинения как «Велесова книга» и т. п.[141]
Определенного рода итоговыми работами в области исследования восточнославянского язычества стали опубликованные в 1970–1980-х гг. совместные труды Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, а также две широко известные монографии Б. А. Рыбакова[142]. Несмотря на то, что исследователи использовали весьма несхожие, а порой и принципиально различные методы «воссоздания» восточнославянских языческих древностей, результаты этих реконструкций были восприняты научной общественностью неоднозначно.
Основные упреки, предъявляемые к исследованиям Б. А. Рыбакова, сводились к тому, что он строил свои концепции на чрезвычайно вольной интерпретации историко-археологических материалов, при этом гипотезы по сути дела подменялись догадками, а степень доказательности выводов неуклонно понижалась по мере исторической ретроспекции. Однако сторонники возглавляемого Рыбаковым «археологического» направления в мифологической реконструкции продолжали пользоваться сходными методологическими приемами. Характерным примером в данном случае является работа И. П. Русановой и Б. А. Тимощука, посвященная языческим святилищам славян[143].
Исследовательская парадигма Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова основывалась на анализе языковых данных, рассматриваемых на широком индоевропейском фоне. Используемая ими методология структурализма, совмещаемая с семиотическим подходом к мифо-ритуальным системам, позволила реконструировать основные черты восточнославянского политеизма. Несмотря на неизбежную гипотетичность выводов о функциях и «ролях» верховных богов славянского пантеона[144], наблюдения данных ученых остаются выдающимся достижением отечественной науки ХХ в. в области изучения древней славянской религии. Идейно близки к работам Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова труды Н. И. Толстого, а также его коллег и учеников по Институту славяноведения и балканистики. Избранное ими направление реконструкции традиционной духовной культуры славянских народов базировалось на последовательном собирании этнолингвистических данных, учитывающем не только языковые, но и культурные диалектные зоны. Результатом этих исследований стало выявление значительных «блоков» древней традиции, связанных, прежде всего, со сферой низшей мифологии и магических верований.
До эпохи христианизации язычество было универсальной системой, дающей обобщающую картину мира и пронизывающей все сферы человеческого быта. С этими сферами соотносилась и иерархия мифологических существ – от пантеона высших богов до сонмов низших духов[145]. Мир сверхъестественный находился в постоянной взаимосвязи с миром людей: они объединялись не только благодаря антропоморфизации сверхъестественного мира и космоса в целом, но и при посредстве многочисленных ритуалов и медиаторов – животных, предков и др.[146]Язычество охватывало всю сферу духовной культуры и значительную часть культуры материальной, т. к. общество было проникнуто убежденностью в постоянном присутствии и участии сверхъестественной силы во всех трудовых процессах[147].
Высший уровень религиозно-мифологической системы языческой эпохи – уровень богов – характеризуется наиболее обобщенным типом функций (магико-юридической, военной, хозяйственно-природной) и связью с официальным культом. На уровне богов мифологическое начало находило достаточно индивидуализированные формы выражения[148].
В основе восточнославянского пантеона лежал принцип противопоставления определенных сфер космоса, и, прежде всего, мира небесного и мира земного. В качестве бога неба, бога грозы и молнии, посылающего на землю дождь, почитался Перун. Культ Перуна был связан с возвышенностями (горами, холмами) и дубовыми рощами. Также Перун воспринимался как покровитель военной дружины и ее предводителя (князя)[149]. Возможно, Перун понимался не просто как «первый» из богов, но как бог по преимуществу, «представитель и заместитель всех богов, бог вообще». Тем не менее «верховенство» Перуна по своей сути было очень далеко от подлинного единобожия[150]. Проблема славянского «прамонотеизма», приобретшая гипертрофированное значение в современных работах, основывается на единственной фразе из Прокопия Кесарийского (VI в.). В новейшем исследовании и переводе его сочинения отдается предпочтение «политеистическому» прочтению: славяне «считают, что один из богов – создатель молнии – именно он есть единый владыка всего»[151]. Перун может быть также отнесен к разряду умирающих и воскресающих божеств, что позволяет связывать его не только с воинственность и властью, но и земледелием – в той степени в какой оно зависит от неба, небесных вод и т. д.[152]
Второй из «главных» богов у славян – это Велес (Волос). Оба имени божества встречаются в источниках и могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Если Перун это бог возвышенностей, бог «верхнего» воздушного мира, то Велес – бог низин, бог «нижнего» мира – земного и водного[153]. Связь Велеса с хозяйственно-производительной, плодоносящей функцией, со скотоводством и земледелием отражается в многочисленных поздних пережитках. Мотив растительного плодородия воплощается в образе «волосовой бородки» – нескольких несжатых колосьев («волотей»), оставляемых на ниве в дар божеству[154]. Имя бога Велеса, по всей вероятности, непосредственно связано с древнейшим слоем славянской лексики, относящейся к процессу обработки земли. Есть основания думать, что природа таких божеств, как славянский Велес и балтийские Vielona, Vels коренится в мифологических представлениях архаичной культуры подсечно-огневого земледелия[155].
По мнению В. Н. Топорова, «наиболее важным в реконструкции представлений о Волосе-Велесе оказалось открытие “змеиной” природы Волоса». Тема змеи в данном аспекте соотносима с темой воды. А связь с водой «отсылает к теме связи с хтоническим миром вообще и со смертью в частности, что полностью подтверждается и родственными мифологическими образами в балтийской традиции»[156]. Б. А. Рыбаков на основе фольклорно-этнографических данных показал приуроченность празднований в честь Велеса к периоду известному в настоящее время как Святки – между Рождеством Христовым и Богоявлением (Крещением)[157]. Он отметил, что «связь Велеса с зимними святками объясняет нам не только обрядовое печенье в виде домашних животных, но и ряжение, одевание звериных масок в святочные дни, пляски в вывороченных тулупах». Таким образом «древний “скотий бог” занимал видное место в народной календарной обрядности»[158].
В стороне от основного пути изучения славянских представлений о Велесе находится гипотеза Т. А. Бернштам, предположившей, что имена Велес и Волос были даны расселявшимися на Севере балтами и славянами местным хтоническим божествам. Поэтому Велеса можно соотнести с северо-западными приморско-озерными землями и водным культом[159]. По ее версии, Велеса/Волоса можно атрибутировать как собирательный образ лесного царя, покровителя охоты и лесного скотоводства[160]. Стоит учесть и наблюдения А. Ф. Журавлева, считающего, что реконструкция мифологического образа Волоса, начальной семантики его имени и даже праславянской формы последнего исключительно непроста. Это наталкивает на мысль о полигенезе образа Велеса/Волоса, как, возможно, и его имени, а не о позднейших локальных вариациях единого в своих истоках мифологического персонажа[161].
Другие высшие божества восточных славян (Дажьбог, Стрибог, Мокошь) явно находились в некоторых, трудно поддающихся реконструкции, отношениях с Перуном и Велесом[162]. Очевидно, типологически эти отношения могли быть подобны тем, что известны для античных богов греков и римлян. Но восточнославянская мифология не достигла того уровня развития, который был явлен в религиозной культуре европейских народов Средиземноморья. Скорее, восточнославянские божества близки по составу и функциональным характеристикам к религиозно-мифологической системе эпохи индоевропейского единства, что косвенно подтверждается сравнительным анализом балто-славянских и индоиранских данных.
Анализируя религиозную ситуацию в дохристианской Руси, нельзя не учитывать, что по основным структурным характеристикам восточнославянский политеизм был идентичен политеистическим верованиям финно-угорских народов Восточный Европы. Распределение богов по их принадлежности к «верхнему» или «нижнему миру», их связь с теми или иными сферами хозяйственной и общественной жизни четко прослеживается в религиозно-мифологических традициях поволжско-финских и прибалтийско-финских народностей[163]. Главным из богов признается бог неба, создатель и верховный управитель всего мироздания. У финнов это Укко – «верхний старец» с мечом и луком, из которого он посылает стрелы-молнии, Инмар у удмуртов, Шкай у мордвы-мокша и Нишке у мордвы-эрзя, Кугу-Юмо у марийцев. Второе место в тройке главных богов занимает богиня среднего мира, супруга бога неба; часто ее называют просто «мать-земля» (Маан-Эмойнен у финнов, Маа-Эма у эстонцев и т. д.). Третий главный бог – божество нижнего подземного мира, управитель страны мертвых: Керемет у марийцев и удмуртов, Шайтан у мордвы, Омоль у коми-зырян)[164]. Общие черты наличествуют и в низшей мифологии финно-угорских народностей[165]. Много типологических параллелей с традиционной обрядностью и магическими верованиями славянских народов можно найти в аграрных и семейных ритуалах финно-угров[166].
Вопрос о внешних формах поклонения богам у восточных славян остается не вполне проясненным. Выявление культовых объектов сопряжено со значительными сложностями. Определение ряда археологически зафиксированных «сооружений» в качестве языческих святилищ не имеет убедительной научной аргументации[167]. Как отмечал еще А. Н. Афанасьев, известия письменных источников о кумирах и местах поклонения им у восточных славян не отличаются полнотой[168]. Источники домонгольского времени говорят о требищах и капищах. «Оба слова: и требище, и капище в древлеславянских переводах Библии употребляются в смысле языческом: капище для обозначения идола <…> иногда и жертвенника; требище (требиште, требьникъ) для обозначения жертвенника, храма и жертвенного возлияния»[169]. В памятниках старославянской письменности X–XI вв. имеются и такие обозначения культовых мест как коумирьница, капищьница, святилище, святило[170].
Идолы – изображения богов, в подавляющем большинстве были деревянными. Показательно двукратное упоминание об этом в начальной части «Повести временных лет», отмеченное Д. С. Лихачевым: «не суть то бози, но древо» (под 983 г.), «а бози ваши древо суть» (под 986 г.)[171]. Не исключено, что идолы из камня тоже существовали. Но как отмечает Н. И. Петров, известные в областях расселения восточных славян находки каменных антропоморфных изображений являются, преимущественно, случайными и, таким образом, не имеют самостоятельной археологической датировки, позволявшей отнести их изготовление ко второй половине I тыс. н. э. Хотя это не противоречит возможности вторичной ритуализации подобных объектов в эпоху средневековья[172]. Характерно, что принадлежность знаменитого Збручского идола к кругу славянских древностей, как и его возможное размещение на «городище-святилище» Богит (Тернопольская обл., Украина), обосновываемое в работах И. П. Русановой и Б. А. Тимощука[173], в настоящее время подвергается обоснованному сомнению[174].
На древность почитания именно деревянных кумиров указывают данные сравнительного языкознания: индоевропейское *bhag– ‘дерево, дуб’, русское бог; готское ans ‘столб’, древнеанглийское oss, древнеисландское ass ‘бог’. Сопоставимы также: русское колода и колдовать, русское ветла и древнеиндийское vetala ‘дух’[175]. Прослеживается соотношение «веры» и «дерева». Следует сопоставить: русское дерево и прусское druwi ‘вера’; индоевропейское *ker– ‘дерево, куст’ и латышское ceret ‘верить’, русское верить и латышское veris ‘густой лес’[176]. Показательна фонетическая соотносимость слов, связанных с идеей жертвы: латинское hostia ‘жертвоприношение’ и русское куст; латинское surculus ‘сук’ и хеттское suris ‘жертвоприношение’; русское жертва и древнеанглийское ceart ‘лес’[177].



