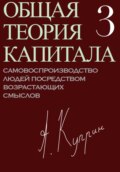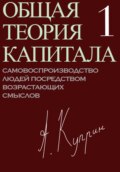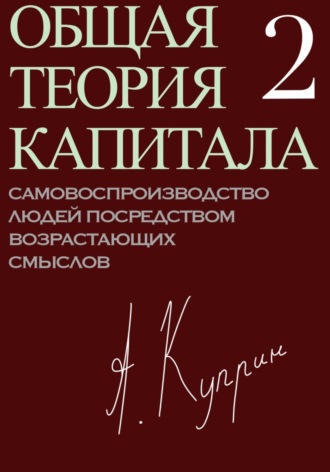
А. Куприн
Общая теория капитала. Самовоспроизводство людей посредством возрастающих смыслов. Часть вторая
2. Производство капиталистического порядка
Стоимость и количество капитала
Для нас накопление капитала связано с возрастанием сложности деятельности и ее средств, выраженной в культурных битах. Другую модель накопления капитала предложил Ойген Бем-Баверк в своей «Позитивной теории капитала» (1889). Для него накопление капитала состоит не в возрастании алгоритмической энтропии смыслов, а, говоря современными терминами, в возрастании их временнóй сложности. Временна́я сложность – функция от величины минимального действия, равная времени исполнения алгоритма (минимального действия) на данном входе, то есть продолжительность производственного процесса при данной производительности работников и средств производства.
Согласно Бем-Баверку, капитал производителен, поскольку он представляет собой окольный метод производства, а производительность капитала растет, если возрастает продолжительность окольного процесса. «Окольный путь, в том смысле, в каком я употребляю это выражение, иногда бывает коротким – например, при изготовлении удочки, – а иногда имеет очень большую длину: скажем, при строительстве железных дорог для перевозки грузов или прокладке телеграфного кабеля по дну океана» (Бем-Баверк 2010, с. 577). Иными словами, Бем-Баверк в определенной мере отождествлял капитал с технологиями, но с такими технологиями, которые, увеличивая производительность, удлиняют при этом технические процессы:
«Мой тезис состоит в том, что разумный выбор или разумное продление окольного способа производства [то есть увеличение продолжительности, связанное с увеличением величины минимального действия, а не с тем, что продолжительность исполнения действия неоправданно удлиняется при том, что сам размер действия остается неизменным – А. К.] в общем случае приводит к увеличению производительности, т. е. к производству благ в большем количестве и лучшего качества, при том что расход производственных факторов не меняется» (Бем-Баверк 2010, с. 574).
Бем-Баверк увидел взаимосвязь между удлинением процессов и повышением их производительности, но он не увидел, что и удлинение процессов, и повышение их производительности зависят от третьего фактора – алгоритмической энтропии (колмогоровской сложности), и что процессы становятся более сложными лишь постольку, поскольку это позволяет повысить их эффективность. При этом более сложный процесс может быть и менее продолжительным, если он выполняется на более производительном входе. Сведение сложности процессов к их продолжительности вынуждало Бем-Баверка делать оговорки, которые становятся излишними, если рассматривать сложность с алгоритмической точки зрения:
«Моя теория не утверждает, что роста производительности можно добиться исключительно посредством удлинения окольных путей производства, а также не утверждает, что технический прогресс достигается исключительно одновременно с удлинением такого рода. Наоборот, я специально подчеркивал, что удачные изобретения часто бывают связаны с открытием лучшего и в то же время менее продолжительного метода производства. Мой тезис состоит не в том, что продление процесса производства – единственный путь к увеличению производительности, а лишь в том, что продление процесса производства обычно является одним из способов достижения большей производительности» (Бем-Баверк 2010, с. 575-576).
Не имея представления об информационной и алгоритмической энтропии, Бем-Баверк не учитывал, что продолжительность окольного процесса определяется характеристиками входа, то есть квалификацией рабочей силы и уровнем развития средств производства. Более квалифицированная рабочая сила и более производительные машины могут выполнять тот же самый алгоритм (минимальное действие) за меньшее количество времени, чем менее квалифицированная рабочая сила и менее производительные машины.
Из удлинения процессов и необходимости обмена настоящих благ на будущие Бем-Баверк выводил необходимость процента на капитал: на тот промежуточный период, пока производятся необходимые средства производства, работник должен обеспечивать себя благами из другого источника, а процент есть плата за возможность пользоваться этими благами. Это подводит нас к мысли, что под окольными методами он имеет в виду не методы производства продуктов, а методы производства деятельной силы. Если под продуктом понимать самого работника, то в этом случае отпадает необходимость в поправке на сложность входа, временна́я сложность совпадает с колмогоровской сложностью смысла:
«Дело в том, что использование технически выгодных изобретений, которые предполагают использование окольных методов, требующих продолжительного времени, возможно при одном существенном условии. Тот, кто хочет использовать свои средства производства (труд и услуги, которые оказывает ему земля) в процессах, чьи плоды можно пожать только после какого-то более или менее долгого промежутка времени, должен в течение этого промежуточного периода обеспечивать себя благами из другого источника. Иными словами, ему требуется запас средств к существованию на то время, в течение которого он будет ждать результатов планируемого продолжительного процесса производства, и, разумеется, чем длиннее окольный путь производства, тем больше должен быть этот запас. В деловой практике обычно говорят, что для использования некоторых изобретений, связанных с длительными приготовлениями, требуется много “капитала”» (Бем-Баверк 2010, с. 578).
В случае, если мы сводим капитал к «запасу средств к существованию», то есть запасу потребительских благ, то и процент на капитал мы сводим к проценту по потребительскому кредиту. Однако в действительности процент на капитал связан не с потребительским, а с производственным кредитованием. Бем-Баверк сводил различие между двумя видами кредитования к разнице мотивов, из-за которых берется кредит:
«В случае потребительских кредитов определяющие факторы – это острота временной потребности, ожидаемый в рассматриваемый момент времени в будущем высокий уровень обеспечения потребностей, и, наконец, степень недооценки будущего со стороны того, кто желает получить кредит. … В случае производственного кредита имеют значение совершенно иные мотивы. Решающую роль играет разница в эффективности методов производства, которые можно использовать при наличии кредита и в его отсутствие. Вернемся к знакомому примеру ловли рыбы капиталистическими и некапиталистическими методами. Вспомним, что претендент на ссуду может поймать голыми руками только три рыбины в день, но, если он возьмет 90 рыбин взаймы, то получит возможность за месяц построить лодку и сплести сети. После этого в оставшиеся 11 месяцев он сможет вылавливать 30 рыбин в день» (Бем-Баверк 2010, с. 519).
Однако на самом деле производственный кредит отличается от потребительского не мотивом, а областью применения. Как мы видели в главе 4, сферой применения производственного кредита и основанного на нем номинального капитала является развитое товарное производство, которое осуществляется с целью получения прибыли, а не домохозяйство, которое ведется для конечного потребления. На этом основании Найт критиковал теорию процента Бем-Баверка, указывая, что его концепция ближе к теории средневекового ростовщичества, чем к теории, которая бы описывала инвестиции в капиталистические предприятия с целью участия в прибылях:
«Примечательно, что “ростовщичество”, которое гневно обличали все моралисты доиндустриального общества, соответствует скорее только что описанному явлению, нежели современному ссудному проценту. В прежние времена производительное инвестирование накопленного богатства было почти неизвестно; редким явлением была даже покупка имущества производственного назначения. Практически единственными известными средствами производства были земля и рабы. Земля не была частной собственностью в современном понимании этого термина и едва ли когда-либо продавалась и покупалась на рыночной основе, а рабы почти исключительно использовались землевладельцем и в связи с землей, даже если не были юридически к ней прикреплены. … Исторически современный ссудный процент развился из потребительской ссуды через промежуточный этап пассивного участия в коммерческих предприятиях, а отнюдь не из сделок по поводу каноэ, рыболовецких сетей и т.д., дающих столь обильную пищу для фантазий представителей известной школы теоретиков процентного дохода» (Найт 2003, с. 137).
Бем-Баверк пытался свести сложность производства к его продолжительности. На самом деле сложность деятельности измеряется величиной минимального действия. Величина минимального производственного действия складывается из культурных битов, которые описывают реальный капитал R как функцию от L, K и M. Процент на капитал вытекает не из временнóй, а из алгоритмической сложности, не из продолжительности окольных методов и обмена настоящих благ на будущие, а из роли капитала в разности между сложностью индивидуальной и сложностью совокупной рабочей деятельности – из того, какую роль средства производства играют в образовании прибавочной стоимости и прибыли.
Принципиальное различие между реальным и номинальным капиталами состоит в том, что если номинальный капитал – это однородная масса стоимости, то реальный капитал – это неоднородное множество капитальных благ. Однако у этого множества есть и масса, измеряемая культурными битами. Иными словами, в отличие от номинального, у реального капитала есть как стоимостной, так и технический измерители. В истории экономической теории смешение этих двух видов капитала вызывало многочисленные споры не по существу. В дискуссии между Найтом и Хайеком, имевшей место в 1930-е годы, первый утверждал, что капитал – это однородный постоянный запас, не зависящий от времени производства, а второй утверждал, что капитал – это неоднородный набор капитальных благ, зависящий от времени производства. Для Хайека ключевой вопрос состоял в том, как имеющийся ассортимент капитала ограничивает возможности для инвестиций (см. Cohen 2003, p. 470). По сути, Найт сводил капитал к номинальному капиталу, то есть стоимости, а Хайек, пытаясь вслед за Бем-Баверком вывести процент на капитал из времени производства, говорил о количестве реального капитала, измеренном не в стоимостных, а в некоторых технических единицах. Однако Хайек так и не смог убедить Найта в том, что время производства может выступать в качестве технической единицы для измерения капитала.
Проблема количества капитала была центральным пунктом и в споре о капитале, который происходил между Кембриджем (Великобритания) и Кембриджем (Массачусетс, США) в 1950-х – 1970-х годах. Спор начался тогда, когда стало ясно: производственная функция превращается в замкнутый круг, если сводить ее аргументы к стоимости труда (заработной плате) и стоимости капитала (проценту). Вклад труда и капитала в создание продукта Y можно определить, только найдя их доли в распределении дохода, источником которого является Y, но чтобы найти их доли в доходе, нужно определить их вклад в создание продукта Y таким способом, который не был бы связан с величиной заработной платы и процента. Нужно найти технические единицы для измерения труда и капитала. Для труда такой единицей можно принять рабочее время, но найти техническую единицу для капитала не удавалось. Сраффа даже заявил о принципиальной невозможности «определения количества капитала и периода производства способом, который делает их независимыми от ставки процента» (Сраффа 1999, с. 159).
Сам Сраффа в качестве решения проблемы количества капитала выдвинул идею «стандартного» или «составного» товара, который мог бы выступать в качестве «неизменной меры стоимости». По существу, «стандартный товар» Сраффы – это некоторое общественно необходимое распределение множества потребительных ценностей:
«В реальности найти некоторый отдельный товар, обладающий, даже приблизительно, необходимыми свойствами, невозможно. Однако комбинация товаров или составной товар были бы одинаково хороши; последний может быть даже лучше, поскольку его можно “перемешивать” для удовлетворения наших потребностей, изменяя его состав с тем, чтобы сгладить скачки цен при одном уровне заработной платы или компенсировать их снижение при другом уровне. … Предположим, что мы выделили из реальной экономической системы такие части отдельных базовых отраслей, что, взятые вместе, они формируют полную миниатюрную систему, обладающую тем свойством, что различные товары представлены среди ее совокупных средств производства в тех же пропорциях, как и среди ее продуктов» (Сраффа 1999, с. 51).
Предложение Сраффы позволяет уменьшить масштаб задачи: вместо экономики в целом можно рассматривать «составной» товар. Но решения задачи это не дает. Выдвигались и другие предложения. В качестве курьеза можно рассматривать идею Джеймса Мида из его работы «Неоклассическая теория экономического роста» (1960) о сведении капитала к «тоннам стали»: «Мы, однако, начнем с нереального, но простого предположения, что все машины одинаковы (они просто тонны стали) и что отношение труда к оборудованию (то есть рабочих к тоннам стали) может изменяться с равной легкостью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе» (Meade 2012, p. 5-6). В 1970 году Джоан Робинсон раскритиковала это предложение – не только из-за его очевидной курьезности, но и из-за того, что оно сводит неоднородный реальный капитал, который складывается как из массы, так и из множества смыслов, к однородному номинальному капиталу, то есть капитальной стоимости:
«В неоклассической концепции капитала все рукотворные факторы слиты в один, который мы можем назвать “латс” в честь “стали” профессора Мида. “Латсам”, хотя они и сделаны из одной и той же физической субстанции, приписывается способность реализовать различные методы производства – то есть различные пропорции “латсов” и труда – а смена метода может быть произведена простым сжатием или расширением “латсов”, мгновенно и без издержек. Более высокий выпуск на одного человека требует большего количества “латсов” на одного занятого» (Robinson 1970, p. 311-312).
Проблема технической единицы для капитала легко разрешается, если взглянуть на нее с точки зрения общей теории капитала – на самом деле количество реального капитала определяется не «временем производства», не «стандартным товаром» или «тоннами стали», а массой культурных битов. Вместе с тем, реальный капитал неоднороден, он складывается из действий и их результатов, то есть представляет собой множество смыслов. Производительность факторов определяется их ролью в производственных действиях. Приращение факторов – деятельной силы, средств деятельности и порядка – не ведет к росту производительности, если такое приращение не отвечает масштабам производства и потребления. Условием для повышения производительности рыбака является не некоторая произвольная масса битов, а та масса фигур, которая необходима для производства лодки и сетей.
Прибавочный капитал присваивает процент
Опираясь на концепцию алгоритмической энтропии смыслов, мы можем дать ответ на вопрос, который занимал Бем-Баверка и множество исследователей до и после него: каковы основания процента. Простой ответ состоит в том, что процент – это доля средств производства, или, точнее, собственников этих средств, в разности между сложностью индивидуальной и сложностью совокупной рабочей деятельности, то есть в прибавочной деятельности и ее результатах. Более точный ответ состоит в том, что процент – это та доля в приращении сложности рабочей деятельности сверх необходимой сложности, которая обеспечивается средствами производства.
В условиях расширенного самовоспроизводства прибавочная деятельность превращается в прибавочную стоимость, при этом прибавочная стоимость является результатом действия трех сил:
● возрастания сложности рабочей силы; результатом действия этого фактора является надбавка;
● возрастания сложности средств производства; результатом действия этого фактора является процент на капитал;
● возрастания сложности расширенного порядка; результатом действия этого фактора являются предпринимательский доход и налоги и взносы.
Сложность средств производства является неотъемлемой частью сложности труда. Не только переменный, но и постоянный капитал является источником добавленной стоимости – и ее необходимой, и ее прибавочной частей. При этом постоянный капитал, или средства производства, делится на две составляющих. Первую составляющую, которая используется в процессе необходимой рабочей деятельности, мы называем необходимыми средствами производства, необходимым постоянным капиталом, или просто необходимым капиталом. Поскольку необходимый капитал используется в процессе необходимой деятельности, он не приносит процентов, а нужен лишь для простого воспроизводства деятельной силы. Примером, когда весь постоянный капитал сводится к необходимому капиталу, является тот случай, когда в процессе деятельности предприятие лишь покрывает свои издержки, включая заработную плату, но вовсе не получает прибыли, даже на уплату процентов на капитал. Вторую составляющую, которая используется в процессе прибавочной рабочей деятельности, мы называем прибавочными средствами производства, прибавочным постоянным капиталом, или просто прибавочным капиталом. Прибавочные средства производства участвуют в прибавочной деятельности, и обеспечиваемое ими приращение сложности деятельности сверх необходимой сложности является источником процента. Прибавочный капитал приносит процент на капитал.
Иллюстрация 13 поясняет нашу мысль. Хотелось бы подчеркнуть, что под необходимой и прибавочной деятельностью мы понимаем деятельность, вооруженную средствами производства. То, что мы показываем постоянный капитал в отдельной строке, не означает, что деятельность ведется без средств производства. Выделяя средства в отдельную строку, мы лишь хотим указать на то, что постоянный капитал устроен так же, как и переменный: он складывается из необходимого и прибавочного элементов. Также необходимо подчеркнуть, что из того, что постоянный и переменный капитал имеют одно и то же устройство, не вытекает равенство их сложностей. Сложность деятельности и сложность средств деятельности не равны друг другу и могут меняться независимо друг от друга. Считаем нужным еще раз отметить, что процент не равен сложности прибавочных средств производства, он равен приращению сложности деятельности, которое обеспечивается прибавочными средствами производства.

Иллюстрация 13. Необходимый капитал и прибавочный капитал
Модель Бем-Баверка, как верно заметил Найт, не имеет никакого отношения к действительному капиталистическому производству. Тем не менее, мы оттолкнемся от нее, чтобы разъяснить природу процента (см. Бем-Баверк 2010, с. 425). При этом мы примем «рыбины» Бем-Баверка за своего рода фигуры, определяющие как сложность, так и эффективность деятельности. Бем-Баверк описывает первобытного человека, не знающего даже о простейшей остроге и ловящего по 3 рыбины в день голыми руками. Мы предполагаем, что рыбак все же имеет простые средства производства, которые обошлись ему в 30 рыбин. Далее, мы включаем в модель не двух, а трех человек: рыбака, капитана, и кредитора. Кредитор ссужает капитану 90 рыбин, на которые тот приобретает лодку и сети и нанимает рыбака с расчетом в конце дня. С лодкой и сетями капитан и рыбак вылавливают по 30 рыбин в день, из которых капитан выплачивает рыбаку не 3, а 4 рыбины в качестве заработной платы – он должен дать рыбаку больше, чем тот смог бы поймать сам. Если мы предположим, что 3 рыбины в день составляют также продукт, необходимый для воспроизводства самого капитана, то в целом необходимый продукт составляет 6, а прибавочный – 24 рыбины в день.
В этой модели необходимые средства составляют 60 рыбин (30 у рыбака и 30 у капитана). Имея средства производства за 30 рыбин каждый, рыбак и капитан могли бы поймать лишь по 3 рыбины, необходимые для их собственного воспроизводства. Купив лодку и сети, капитан повышает сложность и эффективность деятельности – как за счет собственной деятельности и труда рыбака, так и за счет усложнения средств производства сверх необходимого уровня – то есть за счет прибавочных средств в 30 рыбин. Из прибавочного продукта в 24 рыбины процент составляет 3 рыбины, надбавка рыбака – 1 рыбину, предпринимательский доход капитана – 20 рыбин. От амортизации лодки и сетей мы здесь отвлекаемся.
В этом примере процент в 3 рыбины – это доля средств производства в прибавочном продукте в 24 рыбины. Точнее, это доля кредитора, видимо, необходимая для его потребления. Процент равен тому приращению сложности деятельности сверх необходимой сложности в 6 рыбин, которое было обеспечено новыми средствами производства – лодкой и сетями. Остальные 21 рыбина приращения были обеспечены деятельной силой капитана и рыбака и они составляют чистый продукт – прибавочный продукт за вычетом процентов.
Таким образом, ставка процента определяется следующими факторами:
● отношением между необходимой деятельностью и ее средствами – и прибавочной деятельностью и ее средствами, или устройством капитала;
● отношением между величиной постоянного капитала и величиной переменного капитала в составе производительного капитала, или строением капитала;
● тем, какая доля в приращении производительности (сложности) деятельности обеспечивается прибавочными средствами производства.
Средства производства не ведут деятельность, они не создают стоимость и прибавочную стоимость, они лишь переносят на продукт свою собственную стоимость. Но прибавочный капитал является условием для прибавочной деятельности субъекта, для создания прибавочной стоимости. Сложность прибавочных средств производства является элементом в сложности прибавочной деятельности, вот почему прибавочный капитал участвует в прибавочной стоимости в размере процента на капитал.
Если вернуться к объяснению Бем-Баверка, то он называет следующие три фактора, которые определяют норму, или ставку процента:
«Итак, в пределах области наших разысканий мы выявили три фактора, от которых зависит ставка процента. Это размер фонда средств к существованию, численность работников, которым требуются средства к существованию, и конкретная шкала зависимости производительности от увеличения продолжительности периода производства. Воздействие этих факторов на ставку процента можно обобщить следующим образом. Ставка процента в экономике тем выше, чем меньше фонд средств к существованию, чем больше количество работников, обеспечиваемых за счет этого фонда, и чем больше растет производительность по мере постоянного увеличения продолжительности производственного периода. Напротив, ставка процента тем ниже, чем больше фонд средств к существованию, чем меньше число работников и чем быстрее падает добавочный продукт по мере увеличения продолжительности производственного периода» (Бем-Баверк 2010, с. 545).
Можно отметить, что Бем-Баверк приближался к нашему пониманию, хотя и не располагал разработанным понятием сложности. Его «фонд средств к существованию» можно сопоставить с необходимой деятельностью и ее средствами; «отношение между численностью работников и средствами существования» – со строением капитала, а «зависимость производительности от времени производства» – с тем воздействием, которое сложность средств производства оказывает на сложность и эффективность деятельности.
С этой точки зрения неоклассический подход к объяснению процента, идущий от Маршалла, отличается большей легковесностью. Кейнс, который выводил процент из предпочтения ликвидности, то есть стремления снизить неопределенность, не находил оправдания неоклассической концепции, согласно которой процент уплачивается за «ожидание». Как будто мы имеем дело с «зефирным экспериментом», в котором процент определяется исключительно личными качествами владельцев капитала:
«Если мир после нескольких тысячелетий беспрерывных индивидуальных сбережений так беден в отношении накопленных капитальных активов, то это следует объяснять, на мой взгляд, не расточительными наклонностями, свойственными человечеству, и даже не разрушениями от войн, а высокими премиями за ликвидность, прежде причитавшимися собственности на землю, а теперь достающимися деньгам. В этом вопросе я расхожусь с прежним взглядом, выраженным Маршаллом с необычайной категоричностью в его “Основах экономической науки”: “Каждый знает, что накопление богатства тормозится, а норма процента до сих пор поддерживается предпочтением, которое огромная масса человечества отдает в пользу немедленных удовольствий, вместо того чтобы откладывать их на будущее, иными словами, их нежеланием “ждать”» (Кейнс 2007, с. 231; см. Маршалл 2007, с. 551-552).
Различие между классической и неоклассической экономическими теориями состоит не только в том, что первая видела источником стоимости труд, а вторая – полезность, но и в том, что первая делила деятельность и ее средства на необходимые и прибавочные, а вторая не проводила такого разделения:
«Более ранний из этих подходов – это классический подход физиократов, Смита, Рикардо и Маркса. Он по существу был основан на понятии прибавочного продукта, которым общество может располагать и распоряжаться сверх той части произведенного продукта, которая должна быть возвращена в производственный процесс для обеспечения его повторения в неизменном масштабе. В эту последнюю часть включался, наряду с используемыми средствами производства, также и прожиточный минимум занятых рабочих, в широком смысле отождествляемый с их заработной платой. Доходы, причитающиеся другим классам общества, таким образом, включались в состав прибавочного продукта. Особый и предшествующий другим переменным характер установления реальной заработной платы позволял в то же время производить определение относительных цен и также, независимо от него, объема выпуска, формируя простую аналитическую структуру, принципиально отличную от структуры более позднего подхода. В силу институционального характера установления уровня заработной платы и гибкости, обусловленной независимым определением объема выпуска, эта аналитическая структура позволяла учитывать существенное влияние широких социальных, политических и исторических сил на функционирование экономики» (Гареньяни 2010, с. 4-5).
У Бем-Баверка, находившегося на стыке между двумя подходами, еще присутствовали элементы классической теории в виде «фонда средств к существованию», то есть предметов потребления, необходимых для воспроизводства как работников, так и средств производства. Позднее Сраффа, пытавшийся восстановить классический подход Рикардо, говорил о том, что предметы потребления рабочих можно рассматривать как своего рода средства производства (Сраффа 1999, с. 40). Однако последователи Бем-Баверка в процессе сближения с неоклассическим подходом отказались от понятия «фонда средств к существованию». В своей дискуссии 1930-х годов Хайек и Найт в конечном счете свели процент к приращению производительности:
«Хайек также соглашается с Найтом, что ожидаемая производительность инвестиций определяет норму процента – “норма процента практически определяется только производительностью инвестиций”. Несмотря на общий акцент на технической производительности, между авторами сохраняются важные различия. Для Хайека процентная ставка – это результат исторического процесса межвременной оптимизации, опосредованной конкретной временной структурой производства, где производительность инвестиций (третья причина Бем-Баверка для процента) является наиболее важной определяющей переменной. Для Найта ставка процента в рамках теории равновесных цен представляет собой предельную производительность капитала без каких-либо опосредующих факторов» (Cohen 2003, p. 476).
Подход, возобладавший в неоклассической теории, имеет сильную и слабую стороны. С одной стороны, отказ от различения между необходимым и прибавочным капиталом позволил более простым способом объяснить, как выравнивается норма процента, то есть как образуется общеэкономическая норма процента на капитал. Но с другой стороны, как мы увидим ниже, этот подход не позволяет объяснить ряд явлений, связанных с изменением нормы процента при изменениях в производительности.