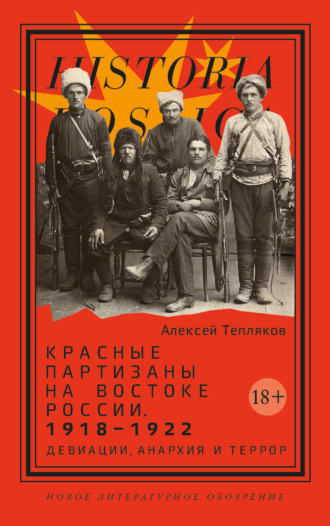
А. Г. Тепляков
Красные партизаны на востоке России 1918–1922. Девиации, анархия и террор
Часть II. От советского криминала к партизанскому
Глава 3
КРИМИНАЛ И ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Большевики спокойно проигнорировали предостережение от использования люмпенов, высказанное Энгельсом в предисловии к «Крестьянской войне в Германии»: «Всякий рабочий вождь, пользующийся этими босяками как своей гвардией или опирающийся на них, уже одним этим доказывает, что он предатель движения»474. Недаром еще в 1905 году Ленин писал о максимальном стремлении объять революционной работой всех, включая маргиналов: в большевистские комитеты должны войти «и крестьяне, и пауперы, и интеллигенты, и проститутки… и солдаты, и учителя, и рабочие…»475.
Советы были выдвинуты большевиками как форма марксистской диктатуры пролетариата, отрицавшей государство и нуждавшейся в народной власти и классовой армии в виде Красной гвардии. Практика быстро доказала, что террористические призывы Ленина и его соратников уничтожать старый мир насилием в отношении собственников и грабежом не остались абстракцией. Видный военный теоретик и исследователь Н. Головин впоследствии отмечал: «…страшную силу приобретали брошенные Лениным лозунги: „Грабь награбленное“ и “Режь буржуя“. Весь преступный элемент привлекался и в ряды большевиков и становился их соратниками. <…> Ленин получал многочисленнейший кадр сотрудников, которые были вездесущи и которые автоматически, в силу патологической психики масс, становились везде вожаками толп»476.
По мнению Н. С. Ларькова, организованность и своего рода разделение труда между маргинальными группами, когда профессиональные революционеры – мозговой центр, рабочие – социальная база леворадикалов, а солдаты – ударная сила, позволили большевикам почти беспрепятственно установить контроль над огромным Сибирским регионом, хотя на выборах в Учредительное собрание они получили здесь лишь 10% голосов. «Сравнительно небольшие, но наиболее активные, социально мобильные, амбициозно настроенные политические группы и слои населения навязывали свою волю основной его массе»477. Однако в это «разделение труда» непременно следует включить и воздействие криминального элемента, особенно активного в Сибири и на Дальнем Востоке.
Известны эпизоды, когда большевики умело действовали шантажом ради освобождения «классово близких» уголовников. Алтайский большевик Г. П. Теребило вспоминал, как в феврале 1918 года Славгородский совдеп послал в Карасукскую волость своего судью, который потребовал от местных «кулаков» освободить бедняков, арестованных за кражи. Ему стали угрожать. В ответ судья заявил о наличии в волости «контрреволюционного восстания». К нему на помощь приехал представитель уездного совета, и они вдвоем, столкнувшись с противодействием крестьян, отправили фиктивную телеграмму в Славгород с требованием прислать отряд в 200 бойцов с пулеметами. Когда коммунисты рассказали об этом собравшимся крестьянам, те тут же повиновались и освободили арестованных воров478.
Британский дипломат и разведчик писал: «В эту раннюю эпоху большевизма опасность для телесной неприкосновенности и жизни исходила не от правящей партии, а от анархистских банд…»479 По мнению современного историка, пресловутое «триумфальное шествие Советской власти» в начальный период Гражданской войны было на деле «процессом беспорядочной расправы анархиствующих масс с контрреволюционерами – скорее потенциальными»480. Белое движение стало логичной самозащитой жизни и имущества от революционного насилия. Так, масштабное выступление донского казачества против красных являлось ответом на эпизоды большевистского террора против офицеров-казаков, священников и на повсеместное мародерство красногвардейцев481.
В показаниях комсостава отряда А. С. Бакича прямо указывается на террор как причину присоединения офицерства к белым. Так, генерал-майор А. С. Шеметов утверждал, что он два с половиной месяца скрывался в лесу – до самого восстания чехословаков, – поскольку уральское население расправлялось с офицерами и их семействами. А когда 12 казаков станицы Петропавловской Оренбургского войска ушли добровольно сдаваться в станицу Карагольскую, их там зарубили. Всего же в Карагольской и Урлядинской было убито 20 казаков. Поводом для генерал-майора И. И. Терванда (Смольнина) присоединиться к белым стал «массовый расстрел без суда и следствия офицерства» в Саратовской губернии482. Первый глава Совета рабочих депутатов в Петербурге Г. С. Хрусталёв-Носарь летом 1918 года писал, что «на развалинах былого величия» воцарились «опьянелый свободой илот и красногвардейская уголовщина…»483.
Придя к власти, большевики тут же узаконили террор, сначала де-факто, усиленно разжигая классовую ненависть. Военно-революционный комитет поселка Мотовилиха Пермской губернии в конце 1918 года печатно провозглашал: «Наши революционные совесть и долг велят нам расправляться со всеми палачами Русской и Международной революции, будь то сознательные палачи – буржуа, капиталисты и их наймиты, или бессознательные – темные рабочие и крестьяне»484. В апреле 1920 года Ленин вполне откровенно, как и позднее Бухарин, разъяснил значение казней классово близких, но «отсталых» лиц: «Про эти расстрелы мы открыто говорили… что мы насилие не прячем, потому что мы сознаем, что из старого общества без принуждения отсталой части пролетариата мы выйти не сможем»485. Л. Б. Каменев в июне 1920 года на пленуме Моссовета провозгласил: «Мы не буржуазия, а социалистическая республика и можем производить опыты, которых не в силах производить ни одно государство»486.
На местах эти социальные опыты производились политиканами, которые управляли взбесившимися низами и нередко были тесно связаны с уголовщиной. В Харбине амнистированные каторжники с разрешения министра юстиции П. Н. Переверзева в 1917 году организовали свой профсоюз487. В Барнауле в состав гордумы попал амнистированный в марте 1917 года каторжанин-уголовник Фролов, записавшийся в социал-демократы; по городу расхаживали и другие амнистированные уголовники с красными бантами на груди. Летом 1917 года депутат Томского народного собрания Л. А. Пичугин в селе Алтайском Бийского уезда не стеснялся в средствах: «С красными знаменами он и его приверженцы ходили по селу и арестовывали всех, стоящих на их пути»488.
Во властных структурах большевиков то и дело мелькали криминальные, опустившиеся личности, растратчики и мародеры, проводившие время в кутежах. Председатель Бакинского СНК С. Г. Шаумян в опубликованном газетном отчете о заседании Бакинского совета признавал, что к ним идет работать всякая шваль489. Он же 23 июня 1918 года предупреждал Ленина: «В Туркестане у нас не очень благополучно. Я говорю сейчас об ответственных работниках. Сюда приехала делегация во главе с „Чрезвычайным Комиссаром“ Дунаевым. Публика очень подозрительная. Пьянствуют, развратничают, тратят десятки тысяч. Приехавший на днях оттуда наш товарищ передает, что это общее явление в Ташкенте»490.
Знаток Туркестана Г. И. Сафаров пояснял, что в этом регионе до 1917 года не было левых партий и что они торопливо организовались из городских низов только с появлением Советов, из‐за чего «партии большевиков и левых эсеров с первых же дней сделались пристанищем значительного количества авантюристов, карьеристов и просто уголовных элементов»491. Грабежи со стороны русских красногвардейцев на фоне голода в селе привели к тому, что «…в мусульманской среде складывалось то роковое настроение по отношению к советской власти, которое выражалось в краткой формуле: „Скоро ли кончится русская слободка?“ – Русская слободка означала голодную смерть, красногвардейский налет на сложившийся веками национальный быт, расправы без разбора, поголовные конфискации и реквизиции, самочинные обыски»492.
В большевистских совдепах и ревкомах Степного края и Туркестана заседали авантюристы и проходимцы всех мастей. О председателе Перовского уездисполкома Сырдарьинской области Сафаров писал: «В Перовске [современная Кзыл-Орда] сидел… [Иосиф] Гержот, присужденный потом Реввоентрибуналом Туркфронта к расстрелу за свои „художества“, которые тысячам и десяткам тысяч киргиз стоили жизни»493. Гержот, скромный чиновник почтово-телеграфной конторы, став в конце 1917 года председателем Перовского уездного совдепа, безраздельно и жестоко правил уездом до октября 1919 года. Именно здесь на территории Туркестанской республики – раньше, чем где бы то ни было, – началось проведение военно-коммунистических мер по реквизиции частной собственности, когда насильно забирали последнее, вплоть до юрт. Казахскому кочевому населению, составлявшему подавляющее большинство жителей Перовского уезда, пришлось бежать, и при этой вынужденной откочевке многие погибли. Как свидетельствовали очевидцы, «…Перовский исполком наводил ужас на население уезда. Все те, кто осмеливался указывать на неправильность действий со стороны исполкома, расстреливались»494.
Прочие руководители Перовского уезда подобрались под стать Гержоту: председатель уездкома партии Трефилов, председатель уездЧК Архипов, председатель продкомитета Дворцов, зампредисполкома Чипков. Все они вместе с Гержотом были арестованы Особой Чрезвычайной комиссией ТурЦИКа в декабре 1919 года. В соседнем с Перовским Казалинском уезде в марте следующего года эта комиссия расследовала преступную деятельность Османа Миреева на посту товарища председателя уездисполкома495.
Один из основателей казахской государственности и литературы Сакен Сейфуллин тоже, возможно, оказался причастен к криминалу, что не помешало ему стать главой правительства республики. Советский работник Д. Адилов показывал в ОГПУ: «Через нашу степь в Ташкент проезжал Сейфуллин. <…> Он отобрал у одного казаха деньги, попал в тюрьму. <…> Он после освобождения доказывал свою невиновность и вот на этом съезде [в декабре 1922 года] попал в председатели Совнаркома»496.
По свежим следам сами коммунисты национальных окраин очень резко оценивали деятельность собственных комитетов. А. Байтурсынов в статье «Революция и киргизы», опубликованной в газете «Жизнь национальностей» в ноябре 1919 года, писал так: «Наводила же на киргизов (казахов. – А. Т.) ужас октябрьская революция своими внешними проявлениями. <…> …Насилиями, грабежами, злоупотреблениями и своеобразной диктатурой власти. Говоря короче, движение на окраинах часто представляло собой не революцию (как обычно она понимается), а полнейшую анархию»497. В 1920 году председатель ЦИК Калмыкии А. Чапчаев констатировал: «Большевизм калмыки понимали как вандализм, стремящийся все разрушить, уничтожить и сокрушить…»498
Низкие моральные качества были природными для коммунистической номенклатуры как для антиэлиты – в большинстве регионов СССР даже 10 лет спустя после победы коммунистов то и дело фиксировались властные «гнойники» с вопиющими случаями полного разложения подолгу безнаказанно безобразничавших представителей правящих структур. Обильное проникновение авантюрно-карьеристского и люмпенского элемента во власть стало характерным для всех регионов страны с первых месяцев после коммунистического переворота.
В хакасской части Минусинского уезда новая власть состояла из амнистированных при Временном правительстве уголовных ссыльных: «отпущенные с заводов», они «были единственными представителями соввласти». В этом качестве советские работники не только конфисковали в свою пользу много скота туземного населения и даже орошенные и засеянные ими поля в Усть-Абаканской степи, но и притесняли хакасов организацией искусственных потрав, конфискуя за это часть скота499.
Большевик Кирилл Матюх в 1905 году за участие в терактах на территории Нежинского уезда Полтавской губернии был сослан в Туруханский край, откуда дважды бежал, а затем оказался «освобожден по ошибке». В конце 1917 года К. И. Матюх стал членом Красноярского совета500. Матрос-большевик П. Д. Старостин в 1906 году был осужден в Севастополе за участие в восстании на 20 лет каторги. В 1914‐м бежал, арестован в Чите и дополнительно осужден «за грабеж почты – заставила необходимость». В 1917 году был амнистирован и служил в 18‐м Сибирском стрелковом полку. В 1918‐м Старостин снова вступил в компартию и стал членом Томского губисполкома, затем партизанил, воевал с отрядами Г. М. Семёнова. А потом ухитрился пролезть к белым и устроился комендантом лагерей военнопленных в Благовещенске. В ноябре 1919 года из Хабаровска Старостин прибыл в Новониколаевск, где сначала скрывался, а сразу после прихода красных снова оказался в «родной» пенитенциарной системе – заведующим домами принудработ501.
Один из барнаульских большевиков-красногвардейцев, который прошел с боями всю Сибирь, самокритично писал о событиях первой половины 1918 года: «…если разбираться здраво в положении прошлого [при] первой Сов[етской] Власти, ведь какой только сволочи не налипло в то время к ней, я… не ошибусь, что 90% было в ней уголовного элемента и различных брехунов…»502 И здесь нет особого преувеличения: представитель Наркомата продовольствия в Западной Сибири Г. А. Усиевич, характеризовавшийся товарищами как «беспощадный к врагам», летом 1918 года заявлял, что реквизиция хлеба для столиц не дала ожидаемых результатов, «так как реквизиционные отряды представляют собой пьяные банды»503, а наркомпрод А. Цюрупа 1 июня 1918 года телеграфировал в Омск требование проверить сведения ВЧК, согласно которым в конце марта на станции Омск имелось до миллиона пудов муки, «которая, не будучи отправленной в Россию, куда-то утекла»504.
Другой советский работник пояснял Совнаркому, куда «утекало» продовольствие:
Я ездил в Сибирь, в Омск, в Краевой Совет по поручению Вятск[ого] продов[ольственного] комит[ета], за хлебом для обсеменения всей губернии. Хлеба там много, есть чем прокормить всю Россию, но нам дали крохи… везде взятки и взятки не как прежде, [а] от 500 до 5000 [руб.] за вагон, и благодаря взяткам вместо хлеба везут табак (взятка 15 т[ыс.] за вагон), вот вам диктатура пролетариата! Раньше если и брали, то брали по чину и уж не так зверски505.
Нелицеприятно высказался о «первой» советской власти и А. Т. Иванов – один из вождей армии А. Д. Кравченко в Енисейской губернии, эсер-максималист, бывший организатор «разбойных шаек», террорист и поджигатель помещичьих имений, осужденный в 1911 году всего лишь к ссылке: «…такая власть на местах создавала анархию… <…> Крестьянство избирало власть для того, чтобы было с кого требовать себе…, а так как потребности были разнообразны, то, естественно, дело все сводилось к мелочам и придиркам. И трудно было властям угодить своему хозяину-обществу. И была не власть на местах, а безвластие. <…> И эта анархия дала возможность сорганизоваться белогвардейщине»506. Делегат от петропавловских большевиков на Западно-Сибирском съезде РСДРП(б) в мае 1918 года признал, что к ним после взятия власти «примкнула часть темных элементов», но в начале текущего года была проведена чистка парторганизации и «примазавшиеся элементы были выкинуты»507.
Власть была сильно поражена криминальным элементом, который оказался заметен в рядах красногвардейцев и партизан, ЧК и милиции, органах партийной и государственной власти. Это было характерно для всей России, захлестнутой агрессивной люмпенской стихией. Ниже будет показано, какие личности, скрыв даже самые тяжкие преступления, выдвигались в ходе социального переворота, составляя значительную часть вождей и их окружения в период «первой» советской власти (нередко сохраняя номенклатурное положение и после разоблачения).
Часть политических активистов начинала с обычного хулиганства. Главный партизан Крыма А. В. Мокроусов (1887–1959) в юности был известным на всю округу хулиганом и пьяницей, потом стал анархистом-боевиком, бежавшим от суда в Южную Америку. В своих мемуарах Мокроусов хвастливо поведал, как, плавая матросом на разных судах, без всякого повода убил «классового врага». Приметив в одном из вояжей богатого пассажира, он вдруг испытал приступ неукротимой ярости: «И такая меня злость взяла на этого гада, что готов был грызть корабельную цепь», – писал он потом в автобиографии. Ночью, дождавшись, когда «буржуй» вышел на палубу, Мокроусов ударил его по затылку и выбросил за борт, а затем, по собственному признанию, «от радости… даже пустился вприсядку, так после этого… стало легко и свободно»508.
Из дневниковых записей Ю. В. Трифонова следует, что его отец и дядя, Валентин и Евгений Трифоновы, крупные военно-политические деятели Гражданской войны, «…были сначала хулиганами в Темернике. Евгений носил красный пояс, и за поясом – нож»509. От хулиганства братья перешли к разбоям: Евгений в 1903 году дезертировал из казачьей сотни и в составе шайки ростовских бандитов грабил городские окраины, а в 1904‐м вступил в ряды РСДРП(б); что касается В. А. Трифонова, то этот большевик в 1905 году командовал боевой дружиной в Ростове и в 1906‐м был выслан в Сибирь за «участие в группе, образованной с целью совершения грабежей и разбоев»510. Есть информация и о хулиганской юности видного красногвардейского командира в Западной Сибири П. Ф. Сухова511.
Часть будущих вождей после отбытия наказания, видя силу государства и разочарование общества вспышкой насилия в ходе революции 1905–1907 годов, отходила от антиправительственной деятельности, поджидая своего часа. Так, будущий глава Челябинского совета и Оренбургского губисполкома С. М. Цвиллинг совсем юным, в 1908 году, был осужден на 12 лет тюрьмы за «экспроприацию» – повторный грабеж аптеки, освободился досрочно и до самого 1917 года не занимался революционной работой, ограничившись симулированием болезни, чтобы не попасть на фронт512.
Польский социалист А. Р. Формайстер, осужденный в 1906 году на 20 лет каторги за грабеж, отягченный убийством беременной женщины, в 1917 году был освобожден и сколотил банду, которая занималась вооруженными налетами в Москве. Затем с помощью друзей-коммунистов Формайстер перешел в ВЧК и много лет занимал ответственные должности в контрразведке и разведке ОГПУ513. В сентябре 1918 года вновь созданную Нижнетагильскую ЧК возглавил местный рабочий Андрей Пузеев, но уже через несколько дней вскрылась его причастность к убийству женщины в дореволюционное время, за что он получил 12 лет каторжных работ, но скрылся от наказания. А. Е. Пузеева сняли с должности и исключили из партии514.
Токарь Мотовилихинского завода А. П. Пилюгин (1887–1959) вступил в РСДРП в 1905 году, но вскоре был отправлен на каторгу за убийство рабочего. В 1917 году, освободившись по амнистии, объявил убийство политическим и как старый большевик сделал карьеру: был членом коллегии Пермской губЧК и завотделом управления Пермской губернии. Другой юный уголовник, рабочий И. А. Куклев (Разин) (1889–1967), тоже имел большевистский стаж с 1905 года, но с 1907‐го отбывал каторгу за вульгарный грабеж. В 1917 году был амнистирован и сразу выбран в совет, командовал партизанским отрядом под Иваново-Вознесенском, служил в РККА и ВЧК. В отставку он вышел полковником юстиции и даже получил место на Новодевичьем кладбище515.
Латыш-большевик Т. И. Козловский в 1907 году был осужден военным судом в Риге на 20 лет каторги за разбой и нападение на рижскую пивную лавку. Это преступление было признано настолько тяжким, что даже амнистия Керенского, несмотря на поданное прошение, разбойника не коснулась. Освободившись в конце 1917 года, Теодор Козловский немедленно восстановился в большевистской партии и до лета 1918 года работал в профсоюзах Западной Сибири, а при белых был организатором подполья. С 1919 года он подвизался в Особом отделе ВЧК 5‐й армии, а в 1921–1923 годах уже являлся зампредседателя Ташкентской ЧК и начальником Амударьинского облотдела ГПУ516.
Среди активных подпольщиков Черемховской организации в Иркутской губернии в 1919 году был И. С. Пестун, позднее член штаба партизанского отряда Л. Табакова. В начале 30‐х годов этот бывший участник захвата Зимнего дворца работал председателем районной контрольной комиссии ВКП(б) в Иркутске и обвинялся в сокрытии уголовного прошлого. Выяснилось, что в январе 1908 года Игнатий Пестун, выдававший себя впоследствии за десятника боевой дружины в Петербурге (в которой якобы состоял в конце 1905 года), был осужден окружным судом к смертной казни, замененной 20 годами каторги, «за разбойное нападение с целью ограбления частной квартиры» и вооруженное сопротивление при задержании и до 1917 года находился в заключении. Также его обвиняли в подаче «прошения на высочайшее имя» о помиловании. Власти ограничились снятием Пестуна с ответственной работы и оставили в партии517.
Первый лидер Якутского ревкома и глава Ревштаба в конце 1919 – начале 1920 года Х. А. Гладунов ранее был коммунистом-экспроприатором, а потом попался на изготовлении фальшивых денег, за что получил каторжные работы. Летом 1918 года он деятельно участвовал в разгоне якутских властей, лично застрелив и ограбив мирового судью и следователя Ф. Н. Банковского, затем стал начальником милиции, а при бегстве от белых похитил кассу совдепа – 32 тыс. рублей. Оказавшись в тюрьме, Харитон Гладунов написал товарищам, обвинявшим его в краже, красноречивую записку: «Черкните, кому и сколько я должен дать»518. Самого Гладунова, впрочем, его товарищи уже к лету 1920 года с ответственной работы устранили519, но чистоты рядов не добились. Председатель Якутской губЧК в 1921 году и глава ревтрибунала С. Ф. Литвинов, как уверял один из видных местных большевиков, в прошлом являлся «атаманом шайки разбойников», а к 1922 году оказался владельцем изрядного количества драгоценностей и мехов – и те и другие были награблены у арестованных520.
После захвата в декабре 1919 года большевиками власти в Охотске (1500 километров севернее Хабаровска) они провели террор, активным деятелем которого был председатель одновременно следственной комиссии и ревтрибунала некий Швед – известный как «подделыватель золота из меди»521.
А министром транспорта и одним из лидеров правительства Дальневосточной республики был анархо-синдикалист В. С. Шатов – бывший эсдек-экспроприатор, в 1906 году участвовавший в ограблении киевской сберкассы, что принесло революционерам 15 тыс. рублей, и бежавший затем в Соединенные Штаты522. Американские социалисты, хорошо знавшие этого энергичного рабочего вожака, отмечали также «дикую разнузданность» его характера523, в связи с которой Шатову сначала пришлось в бытность комендантом Петрограда побывать в конце 1918 года под арестом за пьяный дебош, а год спустя бегло ознакомиться с режимом столичной Бутырки. Американский разведчик К. Каламатиано, сидевший в одно время с ним, отметил: «Интересно дело Шатова – сидел за крупную взятку, слишком веселую жизнь, разврат и т. д., был одним из видных „деятелей“ в Петр[ограде], выпущен через несколько дней и сделан член[ом] Сиб[ирского] правительства!»524
Достоверность заметок информированного арестанта Каламатиано подтверждается материалами Петроградской ЧК, арестовавшей вместе с Шатовым его актрис-содержанок. Так, 18-летняя балерина Т. Горская призналась, что сначала жила с чекистом Н. И. Бахманом, а с февраля 1919 года сошлась с Шатовым, который платил ей за ночь 2 тыс. рублей, посещая каждые две недели. В домовый комитет бедноты шли заявления жильцов о грандиозных кутежах в трех квартирах дома на Коломенской, которые, вероятно, и навели чекистов на след высокопоставленного жуира. Актрисы и поставщики алкоголя отсидели за красивую жизнь по нескольку месяцев, после чего 31 августа 1920 года дело на них прекратили с зачетом предварительного заключения, постановив в отношении Шатова следствие продолжать525.
Но тот уже давно успешно руководил делами на другом конце страны, даже в формально другом государстве. В начале 1920 года Шатов, освобожденный по личному поручительству И. В. Сталина перед Политбюро ЦК526, вынужденно сменил Петроград на Сибирь и Дальний Восток, где более года являлся одной из ключевых политических фигур ДВР. Власть нередко одергивала короткой опалой зарвавшихся своих, а потом снова гладила по голове и назначала на крупные посты.
Одним из виднейших большевиков Приморья, лидером фракции РКП(б) и уполномоченным правительства ДВР во Владивостоке являлся Р. А. Цейтлин – известный до революции харбинский контрабандист опиума, возивший его крупными партиями в Москву из Маньчжурии с помощью целой сети агентов (вероятно, он так пополнял партийную кассу) и не раз сидевший в китайских тюрьмах. Энергично готовивший свержение меркуловского правительства и сначала скрывавшийся в японском штабе, Цейтлин был застрелен 16 октября 1921 года тремя офицерами на конспиративной квартире527.
Хватало бывших террористов, экспроприаторов, жуликов и на всех прочих этажах власти Дальневосточного региона. Комиссар горной промышленности Николаевска-на-Амуре в 1918 году коммунист И. А. Будрин, зверски пытавший николаевцев с целью вымогательства золота, до революции судился за растрату. Адвокат В. Н. Чайванов, в августе 1920 года назначенный генконсулом ДВР в Монголии, а затем работавший управляющим делами ГПУ в Москве, в 1917 году в Иркутске был исключен из адвокатского сословия за растрату528. С криминальным миром был связан К. В. Русский (Бреслав), назначенный в декабре 1920 года (при коалиционном правительстве Приморья под руководством В. Г. Антонова) заместителем начальника Политохраны. Ранее Русский арестовывался за уголовный проступок, а весной 1923 года его исключили из РКП(б) за связь с «уголовной шайкой анархистов-максималистов»529.
Теракты во имя революции считались высшим подтверждением партийной лояльности. Председатель Читинской следственной комиссии А. П. Вагжанов в 1904 году вместе с сообщниками убил «провокатора»530. Работник Никольск-Уссурийской городской управы и член Народного собрания А. С. Лапа, в 1921 году работавший директором ГПО ДВР, имел «заслуженное» прошлое: в городе Конотопе Черниговской губернии после первой русской революции «сошелся с максималистами и с т. Панисицким организовали убийство жандарма Гусакова» (1907 год), а в феврале 1911 года скитавшийся по стране Лапа «поступил в Никольск-Уссурийские ж[елезно]д[орожные] мастерские, где[,] кажется[,] к июню месяцу организовал убийство ротмистра Яковлева, которое убийство кончилось только ранением». Несмотря на то что Лапа в 1917–1918 годах «участвовал во враждебных соввласти выступлениях», он был принят в члены РКП(б) и сделал карьеру531.
Будущий премьер Дальневосточной республики П. М. Никифоров в 1909 году организовал с двумя солдатами кровавую «экспроприацию» почты на Иркутско-Ленском тракте. Как вспоминал Никифоров, «забрали только небольшую сумму, рублей двести, и два револьвера». Однако после ареста экспроприатора приговорили к повешению, заменив затем смертную казнь на 12 лет каторжных работ. (Для сравнения: сокамерник Никифорова получил шесть лет каторги за покушение на чиновника – заведомо более тяжкое преступление, чем грабеж на скромную сумму.) Компетентный эмигрантский источник поясняет причину сурового приговора: при «эксе» были убиты почтальоны, чьи револьверы, вероятно, и достались налетчикам. Мемуаристу, который с симпатией описывал матерых уголовников-смертников, сопротивлявшихся охране Иркутской тюрьмы, вспоминать о двух трупах за две сотни рублей показалось неудобным…532
В конце 1909 года будущий секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) П. Ф. Анохин был приговорен Санкт-Петербургским военно-окружным судом к повешению за покушение на жандарма, затем помилован и отправлен на каторжные работы. Командир партизанского отряда, член Учредительного собрания и Народного собрания ДВР, военком пограничных войск ДВР П. А. Аносов в 1907 году получил 10 лет за попытку «экспроприации» кассы и хранение бомб533. (Впрочем, и благополучно работавшие при Колчаке управляющие Иркутской губернией и Нижнеудинским уездом эсеры П. Д. Яковлев и М. А. Кравков тоже судились при царской власти за экспроприации и хранение взрывчатки.)
Часть разоблачительных сведений об уголовниках на советской службе тогда же попадала в прессу. Известный благовещенский большевик Ф. Н. Мухин, свергший в начале 1918 года эсеровскую власть в Амурской области, участвовал в изготовлении и сбыте фальшивых денег, за что его подельники отправились на каторгу, а Мухин, вероятно за помощь следствию, через два месяца вышел на свободу. Владелец кузнечной мастерской, он арестовывался в 1908 и 1914 годах за подлог и на второй раз получил год арестантских работ. Исключенный из партии в июле 1917 года как бывший уголовник, Мухин уже в ноябре объяснял, что совершал преступления «ради спасения от голодной смерти своих товарищей, терпевших нужду». Общее собрание большевиков Благовещенска, выслушав Мухина, признало его «вполне искупившим свое прошлое» и восстановило в партии534.
Одна из газет утверждала, что безграмотный Михайлов, назначенный красногвардейцами 27 февраля 1918 года начальником милиции Кузнецка, был содержателем городских кабака и публичного дома535. Член Красноярского совета В. Г. Солдатов в юности прошел через тюрьму и каторгу как убийца отца (за издевательства над матерью), потом, уже в армии, был осужден за хулиганскую выходку в красноярском театре, затем активно действовал в Красной гвардии, а после ее разгрома в Даурии скрылся и выдавал себя за организатора подполья в Минусинском уезде. Однако, выставив летом 1919 года свою кандидатуру в гласные Минусинской городской думы, был разоблачен как судимый за мошенничество. Впрочем, после возвращения красных его карьера, несмотря на три уголовные судимости, развивалась уверенно536.
Комендантом Иркутска летом 1918 года стал недавно примкнувший к большевикам уголовник А. Шевцов, отбывавший в свое время бессрочную каторгу. В составе Центросибири (ЦИК Советов Сибири) был левый эсер и «ненормальный морфинист» Г. Цветков – один из создателей Красной гвардии на Забайкальской железной дороге. После неудачной попытки установления советской власти в Чите Цветков вернулся в Иркутск и 20 января 1918 года был задержан пьяным в бильярдной за то, что застрелил партнера по игре. Через несколько дней он был исключен из состава Центросибири, и следы убийцы на этом теряются. Начальником Главштаба Красной гвардии после Цветкова стал Н. И. Арцыбашев – по сведениям прессы, «не менее известный в Иркутске рыцарь зеленого поля» (т. е. бильярдист)537. Зампредседателя Комиссии по борьбе с контрреволюцией Иркутского губисполкома К. Т. Лагошный, анархо-коммунист, в 1910 году был осужден на 2 года 8 месяцев каторги за рассылку угрожающих писем с требованием денег для партийных целей538.


