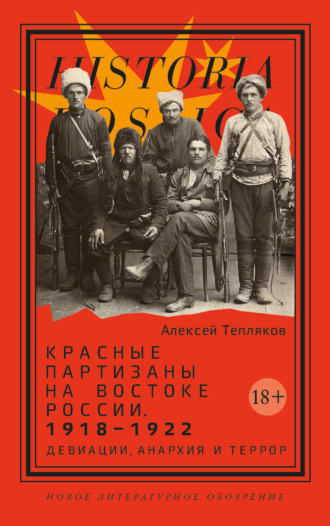
А. Г. Тепляков
Красные партизаны на востоке России 1918–1922. Девиации, анархия и террор
В очень ценном сборнике мемуаров о Гражданской войне в Енисейской губернии, составленном и откомментированном Т. С. Комаровой, использовано около 200 ранее неизвестных текстов, сохранивших свидетельства изнанки партизанской войны. Вторая часть сборника составлена в основном из неопубликованных и неприглаженных воспоминаний видных подпольщиков и партизан из фондов Красноярского краеведческого музея. Сборник отличается объемным научно-справочным аппаратом и включает около 600 биографий в именном указателе238. К сожалению, уже в заголовке почему-то разделяются синонимические понятия «воспоминания» и «мемуары», а в текстах, биографиях и комментариях нередки грубые ошибки.
В конце 2021 года Новосибирским облгосархивом выпущен интересный сборник документов о партизанском вожде П. Щетинкине, выполненный, однако, в традиционной житийной традиции писаний о героях Гражданской войны, небрежно подготовленный, почти лишенный реального комментария и совершенно невычитанный239. Напротив, составленный В. И. Шишкиным и Т. И. Морозовой сборник писем, направленных сибиряками во властные структуры, содержит немало важных партизанских документов, подготовлен с должной тщательностью и очень полезен исследователям240. Издательство «Посев» только что выпустило объемистый сборник мемуаров и других материалов об уничтожении партизанами Николаевска-на-Амуре241.
Создавая настоящую книгу, автор постарался насытить ее достаточным количеством архивного материала. Важнейший из привлеченных архивных источников – партизанские мемуары, огромная часть которых до сих пор погребена в истпартовских коллекциях Госархива Новосибирской области и, хотя охватывает события Гражданской войны на территории от Казахстана до Дальнего Востока, совершенно в недостаточной степени введена в научный оборот. В силу субъективности это очень своеобразный источник, недаром еще в 1934 году один из руководящих научных работников предупреждал исследователя: «Надо залезть в архивы и к партизанам в душу. Правда, они (партизаны) много любят прибавлять того, чего не было»242. Другой участник Гражданской войны в 1929 году заявил: «В отношении хвастовства можно сказать одно, что у многих партизан это… какая-то больная струнка»243. Однако заметная часть довоенных мемуаров красногвардейцев, партизан, подпольщиков носит достаточно объективный характер, поддается перепроверке, откровенна в описании проблем, касается малоизвестных эпизодов и обладает особой ценностью.
Т. Г. Рагозин, один из видных партизан армии А. Д. Кравченко, понимая ущербность своих опубликованных в 1926 году мемуаров «Партизаны Степного Баджея»244, специально для архивного хранения написал интересные дополнения, прямо названные «Тяжелые моменты в партизанской армии». Первый абзац этой небольшой рукописи гласит: «…мне хотелось бы остановиться на более тяжелых моментах [истории] армии… а такие моменты были[,] и я о них сказал в книжке мало или умалчивал. И вот что в эти моменты у нас там было[,] мне и хотелось бы высказать[,] не замазывая истины. Поистине, это были очень горькие и печальные минуты…»245 Только в 2021 году было обнародовано драматическое признание другого предводителя енисейских партизан, А. Т. Иванова: «Как оглянешься назад, [видишь столько] ошибок, легкомыслия, мелкого самолюбия, и сердце сжимается, и перо выпадает из рук»246.
Следует отметить особую ценность лежащих в архивах – и пока недостаточно используемых историками – обширных мемуаров И. В. Громова, Р. П. Захарова, К. И. Матюха, И. Я. Огородникова и других видных партизан. Но и в менее объективных и подробных воспоминаниях попадаются ценные исторические фрагменты, относящиеся к так называемой ненамеренной информации. Полезными оказались даже очень тенденциозные мемуары – вроде воспоминаний А. Н. Геласимовой, которая была известна подделыванием свидетельств о собственном героическом прошлом (сохранился протест рядовых партизан Кузбасса по поводу того, что Геласимова называла себя, а не Шевелёва-Лубкова организатором партизанского движения, тогда как на деле до декабря 1919 года она и ее муж П. Ф. Федорец в нем не участвовали, отчего «Федорца и Геласимову массы не знали»247) и чуть ли не 20-кратным завышением численности «армии» под командованием Шевелёва-Лубкова248.
В одном из мемуарных очерков Геласимова упоенно фантазирует, как в октябре 1919 года при атаке на село Крапивино командовавший отрядом Г. Д. Шувалов-Иванов был ранен и атаку возглавила она, как пулеметчик убил ее вороного, как, упав с коня, она потеряла сознание, но сразу очнулась и побежала на белых с криками «За Советы, товарищи! Вперед!» Разумеется, ее героический порыв увлек партизан: «За мной слышался топот массы людей»249. Однако при описании эпизодов красного террора и конфликтов в повстанческой среде Геласимова вполне точна. Что касается партизанившего в Славгородском уезде С. С. Толстых, то он недрогнувшей рукой приписал себе ликвидацию целых 500 белогвардейцев при крушении воинского эшелона, осуществленном партизанами Толстых в октябре 1919 года250. Среди опубликованных мемуаров подобных вымышленных либо приукрашенных эпизодов очень много. Разумеется, встречаются они и в архивных рукописях, особенно 30‐х годов и более поздних.
Фонд Сибистпарта позволяет ознакомиться и с весьма обширной копийной документацией силовых структур белой власти (в Государственном архиве РФ, или ГАРФ), где много сведений о повстанческих выступлениях, их жертвах и попытках подавления партизанщины. Важным источником является перевод на русский язык информативных и обычно весьма точных мемуаров чехословацкого генерала Р. Гайды251, также хранящийся в коллекции Сибистпарта (ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524).
Материалы партийно-советских органов, особенно ревкомов, содержат обширные сведения о повстанцах, в том числе касающиеся специфического участия партизан в государственном управлении сразу после свержения белых – в период, когда немногочисленные коммунисты и их непоследовательные союзники-партизаны организовывали на местах собственные структуры власти, нередко конфликтовавшие между собой. Партийные, персональные и апелляционные дела партизан из фондов руководящих и контрольных органов ВКП(б), обнаруженные прежде всего в ГАНО, РГАСПИ (Российском государственном архиве политической истории) и РГАНИ (Российском государственном архиве новейшей истории, в фонде Комиссии партийного контроля), зачастую очень содержательны.
Разумеется, особенно интересны материалы архивно-следственных дел ВЧК-НКВД на партизан, принадлежащие к разным периодам: сначала к 1920 году, когда судили наиболее кровожадных повстанцев, вроде Г. Ф. Рогова, И. П. Новосёлова и Я. И. Тряпицына, затем к 30‐м годам, когда чекистами было покончено с основной частью партизанских вожаков. Особенно ценными оказались архивно-следственные дела Рогова и Новосёлова (1920), группы партизан Каменского уезда Алтайской губернии (1920–1921, 1931), известных алтайских предводителей И. Я. Третьяка, А. А. Табанакова, М. З. Белокобыльского (1937), И. В. Громова (1938–1939), приморского командира В. Г. Задерновского (1938) и ряд других. Важны оказались следственные дела анархиста на советской службе В. С. Шатова (1919–1920, 1937), а также участников борьбы с партизанами – управляющего Иркутской губернией П. Д. Яковлева (1924) и его подчиненного, управляющего Нижнеудинским уездом М. А. Кравкова (1937).
Расширить представление о партизанщине позволили сведения из делопроизводственных документов Центрального архива (далее – ЦА) ФСБ, в частности из информационных сводок органов госбезопасности, включая материалы Госполитохраны Дальневосточной республики и переписку полномочного представительства ВЧК-ОГПУ по Сибири с руководящим составом Лубянки. В этих документах отражено много как неизвестных фактов, так и характерных оценочных суждений, касающихся эпохи Гражданской войны и поведения бывших повстанцев в 1920‐х годах. Значительный объем первостепенной информации о партизанах, особенно забайкальских и дальневосточных, и их бесчинствах удалось привлечь благодаря богатым фондам Российского государственного военного архива (РГВА), где немало делопроизводственных материалов военных, чекистских, трибунальских структур, а также мемуарных источников. Очень полезными оказались фонды РГАСПИ (ф. 17, 372), где, например, в фонде Дальбюро ЦК РКП(б) хранится двухтомное расследование деятельности Я. И. Тряпицына (1920), и ряд фондов ГАРФ, включая делопроизводство правительственных структур белых властей.
В перспективе важным источником о демографических потерях населения от террора Гражданской войны станут материалы метрических книг, уже вводимые в научный оборот отдельными исследователями (например, П. А. Новиковым, некоторыми краеведами). Использовались подобные материалы и в данной работе. Следует отметить полезность обращения к информативным сетевым ресурсам (например, «Гражданская война в Сибири»252 и др.), в которых активно участвуют историки и краеведы, обменивающиеся как архивными находками, так и ссылками на малодоступную литературу 1920–1930‐х годов и новейшие работы.
Текст книги сознательно насыщен обильными цитатами из источников, что позволяет увидеть в описываемых событиях то «человеческое измерение», которое активно изучается социальной историей со времен школы «Анналов». Также автор сознательно использовал многочисленные однородные факты для обоснования выдвигаемых положений. Поскольку данная тема является политически ангажированной, то, чтобы исключить претензии в тенденциозном подборе свидетельств о жестокостях партизанщины, обвинения в адрес повстанцев обоснованы достаточным числом фактов.
Документы воспроизводятся в полном соответствии с исходными материалами. А в тот период преимущественно безграмотные люди в огромном количестве создавали, читали и принимали к сведению и исполнению малограмотные тексты, так что при научном воспроизведении советских документов эта характерная черта культурного уровня должна сохраняться.
Несколько слов о терминах. «Партизанское движение» – термин нейтральный, в книге же чаще используется понятие «партизанщина», которое, равно как и общепринятый термин «атаманщина», несет негативную окраску, подразумевая прежде всего разрушительный анархизм данного явления. При этом следует отметить, что в 1920–1930‐х годах словом «партизанщина» советские авторы пользовались не столько в отрицательном, сколько в нейтральном либо положительном контексте253. Известный исследователь В. П. Булдаков употребляет этот термин и без кавычек, и с оными254.
Партизанские отряды на начальной стадии существования либо специализировавшиеся в первую очередь на бандитизме считаю возможным именовать шайками и бандами. Применительно к сколько-нибудь организованным и долговременным соединениям используются принятые термины того времени: отряд, часть, рота, эскадрон, батальон, полк, дивизия, корпус, армия, фронт, не оговаривая, что эта классификация имела очевидную специфику и чрезвычайно сильно преувеличивала организованность и боеспособность повстанцев. Фронтами подчас именовались даже отряды волостного уровня в две-три сотни бойцов, а «штабы» обычно являлись канцеляриями при командирах. По мнению видного военного специалиста, основной оперативно-тактической единицей партизан был отряд255, хотя в многотысячных армиях А. Д. Кравченко и Е. М. Мамонтова реально существовали дивизии и полки.
Данная книга призвана помочь отбросить ряд цепких историографических мифов о партизанском движении, показать истинный облик многих из тех, кого до сих пор считают «борцами за счастье народное», увековеченными в памятниках, и назвать имена хотя бы малой части жертв красного террора, погибших в годы партизанщины мучительной смертью и забытых на целое столетие.
Мой непременный долг – выразить свою признательность коллегам, историкам и краеведам, доброжелательно отнесшимся к этой работе и помогавшим ценными советами, замечаниями, архивными находками и указаниями на новейшую литературу. Особенная благодарность – А. И. Савину. Помогли улучшить книгу новосибирцы В. В. Журавлёв, В. Г. Кокоулин, С. А. Красильников, С. А. Папков, А. Л. Посадсков, В. М. Рынков, Д. Г. Симонов, М. В. Шиловский, В. И. Шишкин. Также сердечно благодарю С. П. Березовского (город Куйбышев Новосибирской области), О. В. Будницкого и Ф. А. Попова (Москва), Г. В. Булыгина (Тайшет), В. С. Измозика (Санкт-Петербург), Н. С. Ларькова (Томск), Е. Г. Малафееву (Калининград), А. В. Посадского (Саратов), Ю. Л. Слёзкина (США), Д. В. Соколова (Севастополь), Ю. А. Тарасова (город Свободный Амурской области), А. П. Шекшеева (Абакан). Я признателен действующим и бывшим архивистам: директору Государственного архива Томской области А. Г. Караваевой, А. А. Колесникову (отдел спецдокументации при Государственном архиве Алтайского края), И. В. Самарину, Е. А. Мамонтовой, Л. С. Пащенко (ГАНО), Т. М. Голышкиной (ЦА ФСБ) и многим другим работникам архивных учреждений (ГАРФ, РГВА, РГАСПИ, ОГА СБУ), содействовавшим мне в работе.
Нельзя не поблагодарить и тех многочисленных энтузиастов, которые разместили и продолжают размещать в свободном доступе в сети Интернет оцифрованные копии книг, статей, журналов, газет и архивных документов, оказывая тем самым неоценимую помощь исследователям. Отдельная благодарность – Германскому историческому институту в Москве за финансирование возможности работать в 2012 и 2016 годах в столичных архивах и библиотеках.
Часть I. Истоки анархического бунта
Глава 1
ТРАДИЦИЯ БУНТОВ И САМОСУДОВ
В настоящее время хорошо заметно, что историки ослабили внимание к поиску принципиальных схем общественного развития – неизменно оказывающихся очень грубыми – и обратились к конкретной личности, изучая выбор ею идентичности, способы организации в коллективы, обыденное поведение и причины смены стереотипов в моменты ломки старых ценностей, представлений о справедливой власти и личных обязанностях, о морально позволенном и табуированном, об отношении к «своим» и «чужим» и т. п.256 Эти активно обсуждаемые вопросы чрезвычайно актуальны при изучении партизанщины как проявления преимущественно анархически буйной жестокости, грабительства и вандализма на почве классовой и национальной розни.
Власть архаических пластов в человеческом сознании, прикрытых тонкой коркой цивилизованности, объяснена К. Г. Юнгом с помощью понятия «коллективного бессознательного». Важны открытые С. Милгрэмом социальные механизмы подчинения доминирующим субъектам, поскольку без формирования жестких иерархических структур человечество как вид не смогло бы выжить. Главное условие формирования таких структур – безусловное и бездумное подчинение вышестоящему индивиду. Таким образом, при организации людей в социальную пирамиду индивидуальные ценности каждого человека подвергаются значимой корректировке257. Человеческая склонность пассивно повиноваться или причинять страдания другим – это «всеобщая естественная склонность, хотя не все следуют» ей. Другие психологические опыты показали, что в чрезвычайной ситуации «поведение индивида будет сильно зависеть от того, как реагируют другие». Однако, сколь бы мощным ни было воздействие социальных структур и факторов среды на людей, оно не доходит до того детерминизма, который отчуждает у них их свободу и, стало быть, их человечность258.
Особенности физиологии и социальных навыков рождают множество феноменов, в том числе негативных, способных вредить обществу. Человек произошел из животного мира, но часто проявляет гораздо больше свирепости, чем звери, среди которых, впрочем, весьма распространены примеры жестокого поведения: пантеры, волки, хорьки зачастую убивают больше, чем могут съесть; зубры всем стадом затаптывают больных особей, а волки стаей пожирают раненых сородичей; медведи, львы, бегемоты, тюлени часто убивают детенышей, опасаясь будущей конкуренции за самку и кормовую территорию.
Для человеческой беспощадности есть и определенные биологические причины: например, высокий уровень тестостерона, помогающий размножаться круглый год, но и ответственный за повышенную агрессию мужской части общества. Однако деструктивная деятельность человека скорее биологически потенциальна, а не биологически детерминирована259. Известно, что человек физиологически нуждается в сильных ощущениях, ибо в его мозге есть группы нейронов, ответственных за переживание именно негативных эмоций: ярости, страха и пр. При длительном недостатке возбуждения порог возбудимости этих нейронов снижается. Поэтому потребность в острых переживаниях (а значит, и в социальных конфликтах) является функциональной и сейчас частично сублимируется культурой – с помощью спорта, зрелищ, искусства260. Сто лет назад в большой моде были кровавые зрелища.
Современный антрополог пишет, что, когда в сообществе образуется дефицит культуры, высвобождаются те инстинкты первобытных людей (жестоких охотников-дикарей), которые обычно заглушены и скованы культурными нормами. Там, где подобные личности «собраны в группы… автоматически возрождаются те нормы и те институции, которые ближе к первобытному обществу, потому что таких или подобных норм и институций требует (и после некоторых опытов все это находит) не обработанный культурой коллективный разум»261. Механизм раскручивания массового насилия известен. Маргинал «находит» себя в стаде себе подобных. А всякое аффектированное сообщество, или, проще говоря, шайка, легко превращается в коллективного насильника. При этом люди, ощущавшие себя в прошлом изгоями, могут возомнить, что являются богоизбранными262.
Поскольку партизаны были преимущественно сельскими жителями, необходимо попытаться оценить, как особенности национальной истории и социальной психологии крестьянской России повлияли на феномен красной партизанщины. Суть психологии русского крестьянина упрощенно, но вполне адекватно выразил в брошюре 1922 года один из лучших тогдашних писателей: «В сущности своей всякий народ – стихия анархическая; народ хочет… иметь все права и не иметь никаких обязанностей. Атмосфера бесправия, в которой издревле привык жить народ, убеждает его в законности бесправия, в зоологической естественности анархизма. Это особенно плотно приложимо к массе русского крестьянства, испытавшего более грубый и длительный гнет рабства, чем другие народы Европы. Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве… без власти над человеком»263.
Отмеченные историками незрелость и духовная противоречивость малограмотной нации отражались и в недостаточной нравственной устойчивости, склонности к спонтанным и иррациональным поступкам, и в поверхностном обрядоверии вместо сознательного религиозного исповедования (характерна дневниковая запись Н. С. Лескова от 1845 года: «Христианство на Руси еще не проповедано»), а также в имитации других значимых вещей. К. Касьянова писала, что русских «…ославили на весь мир какими-то безудержными коллективистами <…> А на поверку оказываемся мы глубокими социальными интровертами, которые очень трудно „монтируются“ в ту группу, консенсуса которой не разделяют»; что коллективистические навыки носят лишь внешний характер, имитируются в интересах приспособления264.
Анализируя потаенный фольклор, ранний исследователь отмечал: «…в русской сказке сочувствие лени и воровству граничит с апофеозом лентяя и вора»265. Современный историк литературы более категоричен: русские сказки, демонстрируя желание человека «пожить в свое удовольствие, без запретов; убивать, не думая, ради забавы, безнаказанно, без цензуры преступных инстинктов», наглядно показывают, что подсознание народа «глубоко и последовательно садистично»266.
Большинство авторов, как старых, так и новых, дают правосознанию российского крестьянства крайне негативную характеристику. Вот мнение С. Ю. Витте, относящееся к 1903 году: «Россия составляет в одном отношении исключение из всех стран мира – народ систематически воспитывался в отсутствии понятия о собственности и законности. <…> …Что может представлять собой империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятие о праве земельной собственности, ни понятие о твердости права вообще?»267 А вот точка зрения современного исследователя: «Веками настроенная на коллективное выживание община формировала у своих членов правосознание, соответствующее этой сверхзадаче: кради, если это отвечает интересам твоего хозяйства и не задевает хозяйственных интересов общины; не плати долгов, за которые община не отвечает по круговой поруке; убей, если конокрад угрожает общему стаду, поджигатель – тесно прижавшимся друг к другу строениям деревни, колдун – здоровью ее обитателей»268.
Культурный и проницательный помещик А. Н. Энгельгардт отмечал противоречивость крестьянского поведения: «Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству, все это сильно развито в крестьянской среде <…> Все это, однако, не мешает крестьянину быть чрезвычайно добрым, терпимым, по-своему необыкновенно гуманным… Но при всем том, [случится возможность] нажать кого при случае – нажмет»269.
Крестьянский мир чрезвычайно мало напоминал сотворенный в сознании интеллигенции патриархально-буколический рай, о чем не раз предупреждали многие русские писатели – от Пушкина и Гоголя до Чехова, Горького и Бунина. Незадолго до смерти Лев Толстой, разочарованный погромами первой русской революции, сказал своему секретарю: «Если я выделял русских мужиков, как обладателей каких-то особенно привлекательных сторон, то каюсь, – каюсь и готов отречься от этого»270. После революции «смена вех» была практически всеобщей: в дебютном романе В. В. Набокова «Машенька» (1926) герой-пошляк заявлял, что Россия погибла, ибо «„богоносец“ оказался… серой сволочью». В 1925 году Илья Репин заметил Корнею Чуковскому: «…но как мы все восхваляли мужика, а мужик теперь себя и показал – сволочь»271.
Крестьянство Сибири и Дальнего Востока обладало рядом качеств, отличных от присущих остальному сельскому населению страны. Отсутствие помещичьего землевладения, громадный наплыв ссыльных, незначительность административного аппарата и его отдаленность от разбросанных далеко друг от друга селений формировали специфические черты психологического склада сибиряков: рационализм, индивидуализм, самостоятельность, вплоть до оппозиционности и отторжения власти, чувство собственного достоинства. При этом мужицкое отношение к государству было, как и везде, недоверчивым и потребительским: крестьяне «постоянно добивались от власти различного рода льгот, пособий, разрешения спорных вопросов в нужном им ракурсе», проявляя при этом «чудеса изворотливости, прекрасное знание законов, элементы социальной демагогии»272.
Сибиряк отличался гордостью, любознательностью, больше трудился, но был при случае не прочь и обхитрить доверчивого партнера, а то и убить беглого каторжника либо батрака-китайца, чтобы не платить за сезонную работу. Для XIX и начала XX века типичны были «варнацкий расчет» (убийство батрака-бродяги по окончании сезона работ) и прямая охота на «горбачей»273, т. е. бродяг из бывших или беглых заключенных. Нравы в каторжной Сибири исстари отличались варварской грубостью. В XVII веке кабаки в сибирских городах, помимо мужчин, посещали не только сосланные в Сибирь за «блуд» женщины, но и местные охотницы до крепких напитков274. Сосланный в Киренский уезд Иркутской губернии А. Н. Радищев о местных крестьянах высказался следующим образом: «Местный житель любит лукавить и обманывает сколько может даже в тех случаях, когда правильно понятая выгода заставила бы его предпочесть честное отношение». Позднее другой автор, говоря о Томской губернии, отметил: «Кража частной собственности… распространена повсеместно и в значительной степени: …крадут необмолоченный хлеб с поля и сено с лугов; крадут шлеи, хомуты и т. п. со двора. Здесь считается правилом, что без присмотра лежит, то и может быть украдено, „на то и щука, чтобы карась не дремал“. Крадут незнакомые у незнакомых, знакомые у знакомых, родные у родных»275.
Огромные крестьянские миграции с конца XIX века пополняли регион массой населения, относившегося к чужой собственности с еще большей легкостью, и это породило у старожилов снисходительно-презрительную поговорку: «Поселенец что младенец – на что взглянет, то и стянет». Современники отмечали жалкий вид хижин новоселов по сравнению с добротными особняками коренных жителей, убогость быта и грубость нравов: «Верхнее зимнее пальто есть далеко не у всех, не раз приходилось наблюдать, как вся семья ходит в одной и той же рваной шубе… Молодежь в свободное время, заломив шапки набекрень, шляется по улицам, пьет, после чего скандалит и дерется»276. В Канском уезде Енисейской губернии до самой Гражданской войны переселенцы ютились в наскоро сбитых «грязных и курных новосельческих избах, зачастую вместе со свиньями и овцами»277, вызывая презрение старожилов к тем, кто и печь сложить не умеет.
Но важнее «легкого» отношения к чужой собственности было то, что народный менталитет не сопротивлялся идее террора, так как не содержал представлений об абсолютной ценности человеческой жизни. Традиционное общество не способно «заметить потерю бойца». Подчеркивая, что дети «питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот», а детская смертность куда больше, чем смертность телят, тот же А. Н. Энгельгардт приводит много эпизодов спокойной реакции матерей на болезнь и смерть детей, например: «Воля Божья. Господь не без милости – моего одного прибрал, – все же легче…» Другая деревенская мать на тяжелый недуг взрослой дочери отозвалась такой сентенцией: «А и умрет, так что ж – все равно, по осени замуж нужно выдавать, из дому вон, умрет, так расходу будет меньше», имея в виду, что похороны обойдутся дешевле, чем выдача замуж с приданым278.
До ХX века среди русских крестьян большим несчастьем считалась смерть некрещеного ребенка, а смерть крещеного, наоборот, воспринималась как особая Божья милость: родители были убеждены в ангельской природе таких детей. Для умерших до семи лет, считавшихся безгрешными, выработали упрощенный вариант похоронно-поминальной обрядности, причем родительские скорбь и горе были объявлены греховными, поскольку ухудшали загробное существование детей. Стремление обеспечить своему сыну или дочери ангельскую посмертную судьбу было так сильно, что порой провоцировало мать на умышленное лишение ребенка жизни, пока он не вышел из детского возраста279.
Британский историк описывает сельский мир как абсолютно отличающийся от городского. Там, на селе, доминировало примитивное однообразие и отсутствие индивидуальности, поскольку все одинаково одевались и стриглись, ели из одной чашки, спали в одной комнате и (добавим) нередко поголовно болели сифилисом: «Стыдливости не было места в крестьянском мире. Отхожие места находились на открытом воздухе, а городских врачей шокировала крестьянская привычка плевать в глаз человеку, чтобы избавить его от ячменя, кормить детей изо рта в рот и успокаивать младенцев мужского пола, посасывая их половой член»280. Еще в середине 20‐х годов три четверти родителей предавались любовным утехам на глазах у детей, что вызывало у первого советского поколения некоторый протест281.
В деревенском сознании считалось нормальным и «тихое» уничтожение неугодного родственника. Убийство расценивалось в общине как внутреннее дело семьи, пока оно не угрожало семейству разорением и, таким образом, не касалось всего сельского общества. Например, неугодную жену муж не отпускал назад в отцовский дом, ведь тогда пришлось бы вернуть и приданое, и ее постепенно забивали, причем в расправе могли принять участие все родственники мужа; соседи знали или догадывались о причинах смерти несчастной, но это была общая тайна деревни282.
Распространена была в русских селах практика самосудов, которая означала любую форму расправы с нарушителем общинных правил – вплоть до его убийства; это касалось застигнутых на месте преступления конокрадов, поджигателей, «колдунов», а позднее даже хулиганов. Решение о самосуде выносил сход, немедленно созываемый по обнаружении преступления; приговор тут же приводился в исполнение. Особенно наглядно практика жесточайших самосудов проявилась в периоды крестьянских войн и восстаний XVII–XVIII столетий, Отечественной войны 1812 года, холерных бунтов начала 1830‐х годов.
Очень жестокой была разиновщина283. Пугачёвцы демонстрировали массовый террор и отъявленный садизм по отношению не только к тысячам представителей высших классов284, но и к рабочим заводов, которые они осаждали, а затем грабили и сжигали, сопровождая эти действия массовой резней населения и уводом пленных, особенно женщин. Из 129 заводов Урала пострадало в 1773–1774 годах более половины: повреждено и разграблено – 37, разрушено – 25, уничтожено до основания и не восстановлено – 7. По 60 заводам оказалось убито и пропало без вести 2670 человек, убытки составили 2,77 млн рублей285.
Масштабы уничтожения жителей уральских заводов не могут не впечатлять. Стоявший на реке Белой (приток Камы) Белорецкий чугуноплавильный завод сдался пугачёвцам после шестинедельной осады в апреле 1774 года. По документам, на заводе было «побито и без вести пропало мужчин 409, женщин 377». На Златоустовском и Саткинском заводах оказалось убито 509 человек, без вести пропало – 490. Воскресенский медеплавильный завод (на реке Тор, в 60 километрах к югу от Стерлитамака) был сожжен повстанцами, уничтожившими 353 мужчин и 311 женщин. На Юрюзаньском заводе «побито и умерло» 266 мужчин и 85 женщин, на Кано-Никольском – 166 мужчин и 79 женщин. Потери Симского завода составили 247 мужчин и 61 женщину, Суховязского – 140 человек, на Усть-Катавском заводе убили 58 мужчин и 50 женщин. Рабочих нередко вырезали всех: Ижевский завод был «выжжен до почвы», погибло и пропало 52 служащих и мастеровых, а сколько крестьян – неизвестно; на Уфалейском заводе было убито 62 мастеровых286.
Огромные потери понесли и несопротивлявшиеся горожане. На добровольно передавшемся Пугачёву Богоявленском медеплавильном заводе (район рек Камы, Усолки и Белой) было убито 158 мужчин и 108 женщин. Не избежал аналогичной расправы и перешедший к повстанцам Катав-Ивановский завод: «Повешено, побито и без вести пропало 132 мужчин[ы] и 62 женщины»287. Внушительная численность погибших женщин говорит о том, что пленных заводчан вырезали семьями; также многих пленниц повстанцы-башкиры уводили с собой. При разгроме Казани в июле 1774 года город был разграблен и сожжен – сгорело 25 храмов и три монастыря, 1772 дома; убитыми оказались 162 жителя, 486 пропало без вести. Основную часть жителей, включая женщин, пугачёвцы пытались угнать с собой – 10 тыс. человек288. В подготовительных материалах к «Истории Пугачёва» А. С. Пушкина поименно перечислено несколько десятков священников и церковнослужителей, убитых пугачёвцами, приведены многочисленные примеры ограбления и осквернения церквей, вплоть до превращения их в отхожие места289.


