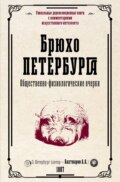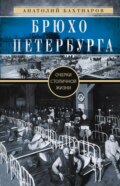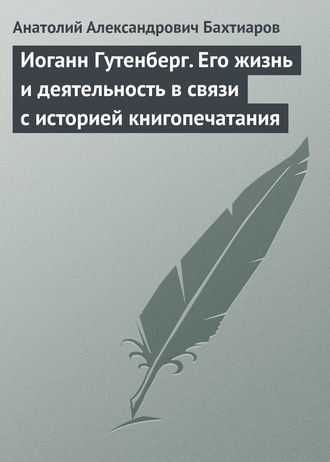
А. А. Бахтиаров
Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания
Типографщики и словолитчики, сравнивая относительную величину каких-нибудь двух шрифтов, обращают внимание главным образом на высоту букв (кегль), ширина же букв может быть различная. Если типографщик говорит, например, что один шрифт вдвое крупнее, то это значит, что высота букв одного шрифта вдвое больше другого.
На этом основании все шрифты у типографщиков имеют свою определенную величину, меру. И расположены они по возрастающей степени, начиная с самого мелкого. Единицей меры у типографщиков служит пункт или точка, равная одной сорок восьмой квадрата, а 1 квадрат равен приблизительно 18 мм (7 линий).
Самый мелкий шрифт будет на кегль 3 и 4, нонпарель на кегль 6, то есть высота букв этого шрифта всего только 6 точек, едва видимых для глаза. Книги, напечатанные этим шрифтом, читать трудно, потому что он очень мелок: от сильного напряжения у читателя могут заболеть глаза. Этим шрифтом печатаются разве только примечания внизу страницы, под текстом, или справочные издания. Далее идет петит на кегль 8, то есть высота этого шрифта 8 точек, цицеро, обыкновенный книжный шрифт на кегль 11, и т. д.
Вообще шрифты по своей величине и очертаниям чрезвычайно разнообразны. В каждой типографии имеется книга, в которой отпечатаны образцы имеющихся шрифтов. Заказчик выбирает тот или другой шрифт, смотря по своему вкусу или надобности.
Вот названия некоторых шрифтов, употребляющихся в типографиях:
название величины шрифтов – нонпарель, петит, боргес, корпус, цицеро, терция;
название характера шрифтов – обыкновенный, плотный, эльзевир и т. д.
Затем идут косые, или наклонные, шрифты, в подражание письму, это – курсив: курсив нонпарель, курсив петит, курсив корпус и т. д.
Так называемые заглавные, или титульные, шрифты весьма разнообразны и зависят от изобретательности пуансонщика.
В России самым крупным шрифтом печатаются напрестольные Евангелия. Как известно, для печатания богослужебных книг в нашем отечестве употребляется церковнославянский шрифт, самый древний из шрифтов, переданный нам по наследству от седой старины. Церковнославянский шрифт, особенно тот, которым печатаются напрестольные Евангелия, окаменел, застыл на месте. Он чрезвычайно своеобразен, характерен и есть не что иное, как древнее уставное письмо.
Шрифт напрестольного Евангелия достигает чудовищного размера, именно кегля № 40. Такую печать можно читать, стоя на расстоянии нескольких сажен от нее…
Что касается цены шрифтов, то она бывает разная, смотря по величине шрифта: мелкий шрифт ценится дороже, крупный – дешевле.
Самый мельчайший шрифт, так называемый диамантовый, продается на фунты, а прочие – на пуды. В 1 фунте диамантового шрифта насчитывается от 800 до 1000 литер, и стоит он 5 рублей за 1 фунт. Нонпарель продается по 52 рубля за 1 пуд: в нем 25 тысяч литер. Петит – 23 рубля за 1 пуд: в нем 20 тысяч литер.
Цицеро —17 рублей за 1 пуд, самый дешевый шрифт, в нем только 8 тысяч литер. Цены на прочие шрифты не выходят из указанных пределов. И наконец так называемые материалы для печати: квадраты, полуквадраты, бабашки для пробелов, шпации, шпоны и т. п., – продаются от 10 до 20 рублей за 1 пуд.
Любопытно, что словолитчикам и типографам в своей практике пришлось наткнуться на некоторые фонетические особенности русского языка.
Спросите записного знатока грамматики, какой наиболее употребительный звук в русской речи, и он станет в тупик.
Многолетняя практика наших типографов показывает, что наиболее употребительные звуки в русской речи следующие: гласные – а, о, и, е; согласные – н, с, т, р; это всякий наборщик знает. Эти литеры лежат в шрифт-кассе ближе к руке наборщика как наиболее ходовые.
Сообразно этому закону и словолитчик отливает одних литер больше, других – меньше, так что в каждой словолитной мастерской имеется буквенная таблица, показывающая, в какой пропорции следует отливать литеры букв.
Например, для шрифта № 10 (корпус) на 10 пудов словолитчик отливает:
а – 8000 литер,
в, с, ъ, ы – по 4000 литер,
о – 7500 литер,
р – 3500 литер,
е – 5500 литер,
к, л – по 3000 литер,
н, и, т – по 5000 литер,
д, у – по 2500 литер.
Затем остальные буквы отливаются от 1000 до 2000 каждая, за исключением ф, э, которых отливают от 100 до 500 литер каждую.
Если все эти литеры сосчитать, то на 10 пудов корпуса получится 105 тысяч литер, кои и представляют собою, так сказать, батальон «свинцовой армии».
Что касается до размера производства литер, то он зависит от размера деятельности самой словолитни, от ее материальных средств и т. п. Обыкновенно одна словолитня поставляет шрифты на несколько типографий и даже в разные города. В Петербурге, например, одна из самых больших словолитен при 150 рабочих (словолитня Лемана) имеет 30 словолитных машин ручных и 12 – паровых. Все эти машины вырабатывают свыше 500 литер ежедневно.
Из словолитной мастерской шрифт поступает в типографию. В каждой большой типографии имеется от одной до трех тысяч пудов и более шрифта.
Какую работу может сделать шрифт? Сколько оттисков он может вынести? И куда девается шрифт?
Чем литеры крупнее, тем шрифт устойчивее. Можно допустить, что шрифт выносит в среднем 500 тысяч оттисков, после чего он сбивается, становится негодным и снова поступает в словолитню, где его покупают уже как типографский металл (гарт) по 3–4 рубля за один пуд.
Большой шаг вперед в области типографского искусства представляет изобретение стереотипии. Она изобретена в Шотландии Вильямом Гедом в 1729 году. Вильям Гед, золотых дел мастер в городе Эдинбурге, не раз слыхал, сколько трудов и хлопот стоило переиздание книг. Как известно, Библия, некоторые классические писатели, учебники и другие книги выдерживают по несколько изданий. Коль скоро издание разошлось, надо приступать к новому, опять набирать текст книги, платить за это наборщикам, корректорам и т. д.
Чтобы сократить работу для переиздания книг, Гед додумался до способа делать копию с набора. Он отправился в Лондон и вступил там в компанию со словолитчиком Джемсом. Гед сделал на пробу стереотипные доски посредством гипсовой массы и оттиснул их на бумаге. Кембриджский университет выдал ему привилегию на печатание Библий и молитвенников. В 1739 году было напечатано первое стереотипное издание Саллюстия в 12-ю долю, петитом.
Первая стереотипная типография в России учреждена русским библейским обществом в 1814 году и первой книгой, отпечатанной стереотипом, был Новый Завет.
Стереотипией называется искусство получать точную копию с набора. Это делается так. Когда текст набран, то на набор кладут влажный картон, склеенный из нескольких, числом до 10, листов тонкой бумаги, и затем особой щеткой начинают бить по этому бумажному картону сверху, вследствие чего он плотно прильнет к набору, на нем получатся все выпуклости набора – до мельчайших подробностей. Каждая литера набора вдавлена в картон; этот картон, называемый стереотипной матрицей, нагревают вместе с набором под прессом, вследствие чего они (матрицы) получают требуемую прочность для отливки стереотипа в особо устроенной для этого форме; полученная таким способом стереотипная доска будет точнейшей копией набора, вполне заменяющей последнюю при печатании.
Если копию (стереотип) поставить рядом с оригиналом (набор), то нельзя будет отличить одно от другого.
Разница та, что стереотип представляет сплошную металлическую доску, а набор составлен из отдельных литер. Но если эту металлическую доску разрезать по буквам, то получатся те же литеры.
Какая же польза от стереотипии? Польза громадная. Она дает возможность: 1) сберегать шрифт, 2) выпускать в свет собственно стереотипные издания и наконец 3) готовить цилиндрические стереотипы, имеющие большое применение в газетном деле.
Чтобы сохранить шрифт от порчи, набор текста заменяют стереотипом, который если и собьется, то его можно будет снова перелить и пустить в дело. Стереотипные доски дают от 70 до 100 тысяч чистых оттисков…
В каждой большой типографии имеется так называемое стереотипное отделение, где изготовляют стереотипные доски.
В стереотипном отделении в углу стоит плавильная печь. Когда с набора снимут стереотипную матрицу, то есть копию, то ее переворачивают и кладут в особый металлический футляр, который открыт с боковой стороны. Затем рабочий наливает из котла железной ложкой расплавленный типографский металл в футляр, прямо на стереотипную матрицу.
Лишь только расплавленный типографский металл выльют таким образом, он мгновенно застынет, заполнив при этом все мельчайшие углубления.
По напечатании стереотипного издания нет надобности сохранять набор текста, а также и металлические доски: набор можно уничтожить, то есть разобрать по шрифт-кассам, а металлические доски пустить в дело, то есть положить их в плавильный котел для отливки других досок. Важно только, чтобы целы были стереотипные матрицы; их сохранять гораздо легче, чем набор текста всей книги или металлические доски. Да к тому же это было бы невыгодно и для типографии: набор или доски, когда они стоят в бездействии в ожидании следующего издания, представляют для типографа мертвый капитал.
Совсем иное дело, когда вместо набора сохраняется его копия – в виде стереотипных матриц. Если издание разошлось, тотчас же с них можно отлить новые стереотипные доски – и печатай сколько угодно. Теперь уже не надо платить деньги за набор текста, за корректуру и т. д. Вот почему стереотипные издания обходятся несравненно дешевле прочих. Если в стереотипном издании прокралась какая-нибудь ошибка, опечатка, то она будет повторяться во всех следующих изданиях, и ее не вырубишь оттуда, как говорится, топором. Приступая к выпуску стереотипного издания какого-нибудь сочинения, тщательно сверяют его корректуру.
Третья выгода от изобретения стереотипии – это возможность применить к тиснению цилиндрический вал. Представьте себе, что стереотипная металлическая доска отлита не в форме плоскости, а в форме цилиндрической поверхности.
Если взять несколько таких полуцилиндрических стереотипов, насадить на цилиндрический вал и при помощи парового двигателя заставить этот цилиндрический вал вращаться около своей оси, то тиснение будет происходить с большой скоростью: стоит только пропустить бесконечный лист бумаги.
До изобретения стереотипии тиснение производилось набором, лежащим в плоскости, как было пояснено выше, на талере; но этот последний нельзя было заставить двигаться с такою же скоростью, с какою может крутиться цилиндр на своей оси. Тиснение досками происходит с перерывами для каждого печатного листа, тогда как тиснение цилиндром происходит непрерывно, безостановочно.
Быстрое развитие книгопечатного дела вызвало к жизни некоторые другие отрасли производства, которые тесно связаны с типографским искусством.
Литеры отливают в словолитных мастерских, а типографскую краску изготовляют на «красочных» заводах; существуют специальные заводы типографской краски. Как известно, типографская краска приготовляется из сажи, льняного масла и канифоли (гарпиуса). Канифоль прибавляют для клейкости краски, чтобы она плотно прилипала к бумаге.
От типографской краски требуются способность противостоять вредным, разрушительным влияниям времени и совершенно черный цвет для удобства чтения.
Вообще же пропорцию составных красочных элементов заводчики сохраняют в величайшей тайне. В специальных технических руководствах предлагается следующий рецепт для приготовления типографской краски: 12 весовых частей льняного масла, 6 – канифоли, 1 – мыла, 7 – сажи, 1/3– берлинской лазури.
Эта норма для типографской краски, так сказать, академическая: от нее всегда бывают отклонения, смотря по качеству и сорту краски.
Завод типографской краски имеет четыре отделения: 1) сажекоптильное, 2) масловарное, 3) составное и 4) краскотерочное.
Есть заводы, которые исключительно занимаются копчением сажи. Коптить сажу – дело весьма простое. Затопить печку, дать ей остыть, и сажа готова; надо только соскрести ее с трубы. На сажекоптильных заводах это дело поставлено на широкую ногу и вполне целесообразно: там при сгорании разных горючих веществ вся сажа утилизуется и не пропадает зря.
Вообразите себе громадное, трех– или четырехэтажное каменное здание с высокой закопченной трубой. Внизу, в первом этаже, большая печь, куда кочегар то и дело подбрасывает смолу, нефтяные отбросы и тому подобные горючие материалы. Дым из печи идет в многочисленные камеры, расположенные зигзагами, одна за другой. И так как камеры расположены в несколько параллельных рядов, то дым сделает поначалу в первом этаже несколько концов и потом проходит в следующий этаж. Там он также начинает странствовать по камерам и, не находя себе выхода, подымается в следующий, где наконец, обойдя все камеры, выходит наружу. Но это почти уже не дым, а один только жар, тепло: вся сажа осела на стенах многочисленных камер. Дым в этом коптильном лабиринте сделал по крайней мере версту, прежде чем выбраться на волю.
В коптильных камерах по стенам понавешаны холщовые мешки – для сбора сажи. Коптильня работает и денно и нощно, в продолжение недели, потом ей дают остыть, и затем туда входят рабочие со щетками в руках и принимаются сметать сажу со стен камеры в мешки.
От 40 пудов газовой смолы получается приблизительно около четырех пудов сажи, от 10 пудов бересты – один пуд сажи.
Хотя в обыденной жизни сажу и называют черною, но в больших массах она имеет сероватый цвет, переходящий в рыжеватый тон.
В типографском деле, особенно для иллюстраций и рисунков, требуется краска безусловно черная, блестящая, как вороново крыло. Для такой краски эта сажа не годится: к ней прибавляют в этих случаях особый высший сорт сажи, приготовляемый из ламповой копоти.