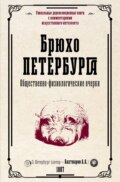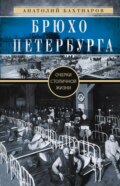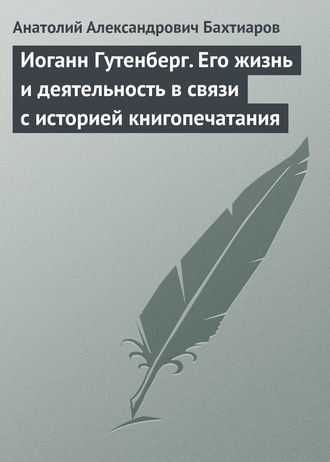
А. А. Бахтиаров
Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания
С. Максимов в своем сочинении «Год на севере» обстоятельно описал одну берестяную книгу, которую он видел у какого-то крестьянина Архангельской губернии.
Современник преподобного Сергия, митрополит Московский и всея Руси святитель Алексей перевел и переписал собственноручно весь Новый Завет. Рукопись эта доныне хранится в Москве, в Чудовом монастыре, где покоятся мощи этого святителя. Св. Стефан, просветитель Пермской земли, еще в юности занимался в городе Ростове переписыванием священных книг. Впоследствии он составил для зырян – этих лесных обитателей – особую азбуку и перевел на зырянский язык некоторые богослужебные книги. Митрополит Макарий, составивший Четьи-Минеи, написал эти церковные книги в Великом Новгороде, когда там был архиепископом, причем писал и собирал их двенадцать лет при помощи многих писцов, на уплату которым он не щадил ни серебра, ни золота. Почти все свое имущество он потратил на переписку книг.
Нил Сорокин, читая разные книги, списывал из них места, более ему нравившиеся, находя в этом величайшее удовольствие, как сам признавался в письме к князю – иноку Вассиану: «Печаль приемлет мя и обдержит, аще не пишу!»
Перепискою книг занимались и иноки, и лица белого духовенства, и миряне, иногда даже и князья. Занимаясь этим делом, по словам людей того времени, человек достигал трех целей сразу: питался от своих трудов, праздного беса изгонял и с Богом беседовал.
В монастырях книги переписывались не только для монастыря, но и для вольных людей – на продажу. Даже на крайнем севере России, на Белом море, в Соловецком монастыре, монахи издавна между прочим занимались и перепискою книг – для продажи, несмотря на то, что им приходилось вести непрестанную борьбу с суровой северной природой. Велика просветительная заслуга наших монастырей, как, например, Троице-Сергиевой лавры, Соловецкого монастыря, Валаамского и т. п. Святые подвижники уходили в глушь северных лесов, расчищали их, основывали монастыри и поощряли иноков к переписыванию книг. Мало-помалу при монастырях составлялись большие библиотеки рукописных книг.
Книгохранилищем, с благословения настоятеля монастыря, заведовали особые старцы, называвшиеся книгохранителями. В Троице-Сергиевой лавре издавна сохраняется, например, свыше 800 рукописных книг, из которых самые древние относятся к XII столетию и 400 рукописей – к XVI столетию.
Пожертвование той или другой книги в какую-либо церковь считалось важным вкладом. Монастыри нередко снабжали церкви своими книгами. Выстроилась новая церковь, – где взять для нее книг? Церковные священнослужители обращались с просьбою к монастырю, и монастырь не отказывал. Со своей стороны, и церкви не отказывали, когда дети приходили в церковь научиться читать по псалтыри. Книги были дороги и редки, – где же можно было научиться по ним читать и писать? Конечно, в монастыре или церкви. С другой стороны, строжайше было запрещено выдавать книги на дом, потому что церковь сама не богата книгами, книги каждую минуту необходимы для церкви, и наконец, чтобы книги не «зачитывали». Когда книгу жертвовали в церковь, то на книге имели обыкновение надписывать имя жертвователя, а также и то, по какому поводу она пожертвована. Так, например, царь Михаил Федорович пожертвовал в Соловецкий монастырь книгу и при этом собственноручно сделал следующую надпись: «Дарю сию книгу Устав в дом Пресвятой Троицы Анзерской пустыни. Царь и Государь и великий князь Михаил Федорович Всея России». Очень часто подписывались, что книга пожертвована «за отпущение грехов своих». Жертвователь иногда надписывал на книге, чтобы ее никто не смел взять из церкви: «Кто эту книгу возьмет из церкви, того Бог накажет в этом веке и в будущей жизни». Жертвовали книги в монастыри и «на помин души». Считалось тяжким грехом небрежное отношение к книге, особенно если она находилась в церкви. В приписке к одному Евангелию значится: «…а который поп или дьякон чтет, а не застегает всех застежек, буди проклят».
Переписывание книг происходило медленно и требовало усидчивого труда. Приступая к переписыванию, писец возносил молитвенное обращение к Богу – о благополучном окончании предпринятого труда. Иная книга писалась в продолжение двух-трех лет. Летопись около 180 листов монахом Лаврентием в 1377 году написана в 75 дней, то есть по два с лишним листа в день. Еще медленнее писалось Остромирово Евангелие, хранящееся теперь в Петербурге, в Императорской публичной библиотеке: оно писано в 203 дня, то есть по 100 строк в один день. Этой книге теперь 830 с лишним лет: она написана дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира в 1056–1057 годах на пергаменте или, как выражались тогда, – на «мехе» или «коже».
Принимаясь за переписывание книги, писец для ведения строк в равном одна от другой расстоянии проводил на бумаге прямые параллельные линии. Писали крупно – уставом, или мельче – полууставом. Теперь мы пишем несколько вкось, наклонно, справа налево, под углом в 45 градусов к самой строке; тогда буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие «берега» во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, проникавшие глубоко в пергамент.
Удивительно, что цвет чернил большинства старинных рукописей сохранился до сих пор, они не выцвели.
Смотря по умению и усердию, книги писались весьма различно и красиво. Заглавные буквы писались красными чернилами, киноварью, отсюда название «красной строки». Иногда заглавные буквы затейливо украшаются золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментации русских рукописей, преимущественно заглавных букв, входят разные фантастические существа, чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п.
В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.
Были рукописи лицевые, то есть с ликами Иисуса Христа и святых, с изображениями событий из Священной истории.
Такие рисунки делались весьма тщательно, и некоторые из них до сих пор удивляют тонкой, кропотливой отделкой деталей художественной работы и искусной окраски. Мелкое письмо, или скоропись, исполнялось удивительно красиво: буквы точно бисер низались, и каждый стих, например, псалтыри, был изукрашен при начале золотом и красками, с узорами и цветами.
Свои мысли и чувства по окончании книги древние переписчики обыкновенно излагали на последнем листе книги, в послесловии. Один из них, например, пишет, что «как радуется мореплаватель, совершивший благополучное свое далекое путешествие, так точно радуется переписчик, окончивший книгу». На другой рукописи читаем такую приписку: «Подобно тому, как заяц радуется, когда вырвется из тенет охотника, так точно переписчик книжный радуется, когда допишет до конца книгу».
С увеличением нашего государства богатели города, умножались в них жители, число церквей росло, и в книгах все более и более ощущался недостаток. Священное писание переписывали только по частям, и долго нигде нельзя было найти полного списка Библии. Только в конце XV столетия, при Иване III, списана была полная Библия в Новгороде старанием архиепископа Геннадия. Много трудов и забот предпринял этот святитель, чтобы собрать рассеянные по разным местам отдельные книги Ветхого и Нового Завета и потом сделать с них полный список Библии.
Переписывание книг требовало от писцов некоторых сведений: кроме основательного знакомства с грамотой, они должны были знать, с какого более или менее правильного перевода списывать им Слово Божие, чтобы не вводить читателей в заблуждение. Однако редко кто удовлетворял этим элементарным требованиям, и потому переписчики книг по безграмотности делали массу ошибок, которые с течением времени накоплялись все больше и больше. Даже опытные переписчики и те делали много ошибок, в чем они чистосердечно и признавались, прося читателя исправлять эти ошибки, если где он их заметит.
С развитием рукописного дела, с увеличением спроса на книги переписывание книг не могло, конечно, оставаться в руках усердных и благочестивых людей.
Монашеских рук недоставало… Явились наемные исполнители заказов. Перепискою книг стали заниматься дьяки. В Москве был особый класс доброписцев, которые исключительно занимались перепискою книг на продажу. Писаными книгами стали торговать на ярмарках. В написании книг, кроме писцов, принимали участие и рисовальщики: появилось, таким образом, разделение труда. Писец оставлял пропуски для заглавных букв, которые потом вырисовывались киноварью рисовальщиками.
Для сбережения места на бумаге писцы нередко прибегали к так называемой вязи, такой замысловатой, что нужен был особый навык, чтобы уметь разбирать ее. Чем позднее рукопись, тем труднее разбирать эту вязь, называвшуюся также фряжским письмом.
С течением времени в книгах накопилось множество ошибок. Всего более от этого страдали книги богослужебные. Известный поборник просвещения на Руси, переводчик и исправитель богослужебных книг Максим Грек (прибыл в Россию в 1518 году, умер в 1556 году) называл эту порчу «растлением» книг.
Ошибки писцов и злоумышленные перемены в тексте священных книг давали повод к разным кривотолкам, от слов происходили ереси, распри и разногласия.
Царь Иван Грозный в 1551 году обратил внимание на неисправность письменных книг, говоря, что божественные книги писцы пишут с неисправленных переводов и что ошибку к ошибке прибавляют. Тогда духовный собор постановил, чтобы священники исправляли те богослужебные книги, в которых замечены ошибки. Затем строго запрещалась продажа книг неисправленных, то есть с ошибками. Если же оказывалось, что кто-нибудь продавал книгу, заведомо не исправленную, с ошибками, то подобную книгу предписывалось отбирать даром («и те книги имати даром, без всякого зазору») и, исправив, отдавать в церковь, которая имеет нехватку в книгах.
Но все эти меры были недостаточны для искоренения зла.
Чтобы избежать ошибок в рукописных книгах, следовало изменить самый способ производства книг.
Существовало ли в России до введения книгопечатания какое-нибудь тиснение?
На этот вопрос приходится ответить утвердительно.
Русские книгописцы вырезали обронно (вверх) на деревянных или металлических досках целые заглавные строки, заставки и лицевые изображения и оттискивали их в начале рукописной книги или на переплете.
В рукописном Евангелии 1537 года, хранящемся в Московской синодальной библиотеке, большие узорчатые заставки, начальные буквы и заглавная вязь оттиснуты обронными досками и потом дополнены рисунками от руки.
Несмотря на то, что зачатки тиснения в России уже практиковались книгописцами, книгопечатание еще не было введено.
Обстоятельства введения книгопечатания в России таковы.
В 1553 году царь Иван Васильевич Грозный нуждался в богослужебных книгах для строившихся многих церквей, воздвигаемых в завоеванном Казанском царстве. Для этой цели он повелел скупать рукописные книги на торжищах, то есть на рынках. В 1555 году по всему Московскому государству собирали книги и отсылали казанскому владыке Гурию. Но из собранных книг мало оказалось исправленных. Вследствие этого царь решил ввести в России книгопечатание. Он знал уже о существовании печатных книг.
Митрополит Макарий, узнав от царя о таком благом начинании, сказал, что эта мысль внушена царю самим Богом, что это «дар, свыше сходящий». Таким образом, митрополит Макарий сразу оценил значение книгопечатного дела для России.
Прежде всего надо было позаботиться приисканием мастеров. Еще в 1547 году царь поручил немцу Шлитту набрать в немецкой земле разных мастеров и художников, в том числе и типографщиков, но немецкие мастера не добрались до России. По просьбе царя в 1552 году датский король прислал мастера завести у нас книжное дело. Но прибывший в Москву типографщик предлагал вместе с тем царю принять лютеранское вероисповедание, которое тогда только что проникло в Данию, и привез с собою Библию и две другие книги, в которых излагалось Лютерово учение. Датским послам пришлось сказать, чтобы они не вводили нас во искушение и убирались восвояси: вводить книгопечатание переменою православного вероисповедания на лютеранское – слишком дорогая цена.
Оказалось, что у нас были свои книгопечатники, постигшие новое искусство и возлюбившие его до самоотвержения. То были дьякон церкви Николы Гостунского в Кремле Иван Федоров и Петр Тимофеев, по прозванию Мстиславец. Неизвестно, кто научил наших первопечатников, но надо полагать, что учителями их были итальянцы. Это видно из того, что все типографские названия и наименования мастеров итальянские, а не немецкие, так, например, тередорщик (печатник) по-итальянски – tiratore, батырщик (набойщик или накладчик краски на литеры) по-итальянски – battitore, пиан (верхняя доска в печатном станке для давления) по-итальянски – piano; тимпан (четырехугольная рама на станке, на которую накладывается печатающийся лист) по-итальянски – timpano; маца (кожаный, обитый шерстью мешочек с рукояткой для набивки краски на литеры) по-итальянски – mazza; марзан (брусок, вкладываемый в наборные формы там, где должны оставаться поля, или края книги) по-итальянски– margine; пунсон (стальная буква для пробивки матриц) по-итальянски – punzone; наконец, штамба (книгопечатное заведение) по-итальянски – stampa.

Наборный инструментарий. По Дж. Моксону. 1683 г.
Московское государство со времен Софии Палеолог, при Иване III, было в близких сношениях с Италией, особенно с Венецией, откуда прибывали в Москву разного рода фряжские художники и ремесленники.
Нет ничего удивительного, если книгопечатание проникло к нам из Италии, где Венеция, как мы видели выше, по своему типографскому искусству стояла впереди других городов Европы.