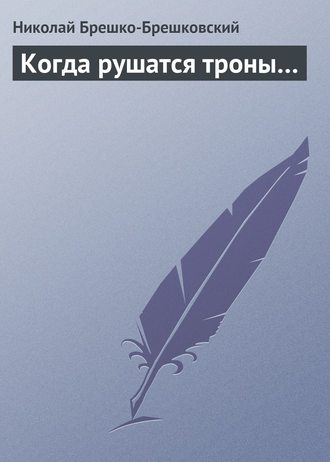
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
36. Перед выступлением
За столом, кроме Алибега, Кафарова, Джунги, сидели еще офицеры и генералы, помнившие такие же военные советы во время последней войны.
И как тогда молодой Адриан, увлекающийся, страстный, но не теряющей духа и веры в самые тяжелые моменты неуспехов и неудач, поднимал настроение, заражал своей бодростью, так и теперь все воспрянули духом, не сомневаясь, что раз с ними их коронованный вождь, – он вместе с собой принес и победу, и счастье.
Алибег обрисовал положение на фронте, если можно было назвать фронтом две группы, разделенные десятками километров и пока вошедшие в соприкосновение только при помощи воздушной и тайной разведки. А разведка эта показала следующее:
– Количество красных бойцов превосходит едва ли не вчетверо оба наши корпуса. Но, Ваше Величество, красное командование, оказывается, не особенно доверяет своим пролетарским легионам. Вот почему не осмеливается оно двинуться дальше Бокатской зоны, представляющей сектор с дугой в сорок – пятьдесят километров. Зона укреплена, и, хотя это далеко не последнее слово инженерной техники, но есть и окопы, и проволочные заграждения, и большое количество орудий. За проволокой довольно густые линии войск, – около шестидесяти тысяч. В ближайшем же тылу отряды особого назначения и полевая жандармерия – все испытанные коммунисты, как из советской России, так и свои, пандурские. Если фронт дрогнет, они должны остановить бегущих пулеметным огнем и обратно загнать на позиции. В поле красные не выйдут, да их и не выпустят, боясь измены. В поле не удержишь под пулеметами всех этих «железных бойцов революции».
– А с моря?
– На береговую полосу, Ваше Величество, они не обращают никакого внимания. Десанта им опасаться нечего. Они знают, что у нас нет перевозочных средств. А к тому, что Друди время от времени обстреливает их, они привыкли, хотя всякий раз эта легкая бомбардировка и вызывает у них панику.
Адриан молча склонился над картой, молча вглядываясь в береговую полосу. Поднял глаза, с обычной светящейся улыбкой своей молвил:
– А мы им приготовим сюрприз! Одновременно с тем, как будем рвать фронт, мы высадимся у них в тылу, захватим Бокату, поднимем восстание и освободим томящихся в тюрьмах, чтобы эти негодяи в последнюю минуту не успели перебить своих заложников… Я думаю, с Божьей помощью и при содействии авиации это удастся… Кафаров, как вы полагаете?
– Ваше Величество, я думаю, что ротмистр Алибег, пожалуй, прав, говоря, что у нас нет перевозочных средств.
– Как нет? Десять больших фелюг найдется…
– Да, но какой же это будет десант? Триста, самое большее, четыреста человек?..
– И не нужно больше! Триста лучших, отборнейших людей, половина из них офицеры, – вполне достаточно!.. Друди со своей подводной лодкой будет прикрывать их… Все это мы разработаем сегодня же. Сегодня что у нас? Среда? Просто не верится. Всего только в воскресенье в Мадриде я смотрел бой быков, а сегодня… Итак, среда… – соображал Адриан, – четверг, в ночь с четверга на пятницу… – и хотя король не кончил, но все поняли, что в ночь с четверга на пятницу он поведет войска на прорыв…
И словно какой-то невидимый ток пронизал сидящих за столом, и все встрепенулись и замерли с напряженными лицами. В этом напряженном чувстве – и сознание громадной важности того, что надвигается, и смутная, необъяснимая тревога, и вера в своего вождя, и беспредельное какое-то любование этим своим вождем… Действительно, прав мулла, – именно как Сын Солнца, спустился Адриан в самый грозный, самый решительный для всей Пандурии момент. Оставшись вдвоем с Джунгой, король сказал ему:
– Попросите ко мне архиепископа Бокатского и вместе с ним имама Хафизова.
Через минуту Адриан усадил против себя двух князей церкви, – христианской и магометанской.
– Монсеньор, – обратился он к архиепископу, – сколько здесь, в Трагоне, священнослужителей?..
– Сейчас доложу, Ваше Величество… Три епископа…
– Только? – удивился Адриан, – а остальные девять?
– Там, Ваше Величество! – скорбно поднял вверх глаза архиепископ. – Все до единого расстреляны. Все… После жесточайших пыток…
– Какой ужас, – прошептал Адриан, сжав лоб рукой и проведя ею по лицу. – Дальше?
– Затем одиннадцать священников и восемнадцать монахов.
– Три, одиннадцать и восемнадцать. В общем – тридцать два! Скажите, монсеньор, могут ли эти служители Господа привести к исповеди в течение двадцати четырех часов весь первый корпус?.. Я поведу его после исповеди и святого причастия и желаю, чтобы все последовали моему примеру.
– Ваше Величество, вы поистине христианский монарх, – умилился архиепископ, продолжая тотчас же другим, уже деловым тоном, – двадцати четырех часов вполне достаточно.
– Имам, – обратился Адриан к неподвижно сидевшему Хафизову, – ваша магометанская религия включает исповедь?
– Включает, Государь, но не в такой обрядовой форме, как у христиан. Исповедь у нас – всеобщее моление, по-арабски называемое истишфар. Происходит истишфар так: мулла читает вслух молитву, а все верующие повторяют ее за ним, стоя на коленях… Мысленно же каются в это время во всех своих прегрешениях.
– А молитва как таковая тоже покаянного характера?
– Нет, Государь, она вмещает в себя семь отдельных молений. За Господа Бога, за ангелов, за пророков, за все священные книги, за блага загробной жизни, за милостивый Страшный Суд и за то, чтобы каждый правоверный с одинаковой покорностью воспринимал как добро, так и зло, ниспосланные Богом…
– Имам, я вас прошу привести к истишфару весь мусульманский корпус…
Мулла ответил низким поклоном.
37. Противники Адриана
Макс Ганди, он же Дворецкий, он же Кирдецов, бывший дезертир императорской армии, потом шпион австрийской разведки, потом большевицкий агент и редактор социалистической газеты в Бокате, потом министр внутренних дел в демократическом кабинете Шухтана и, наконец, видный член красного правительства, – как сыр в масле катался в пандурской Совдепии.
Прошедший каторжный стаж в Москве и Петрограде, он перенес оттуда всю налаженную систему грабежей, моральных и физических истязаний, убийств и прочих коммунистических гнусностей. Эта плюгавая, худосочная мразь с красными глазами кролика, с дряблой старческой пергаментной кожей и выпирающими вперед желтыми, как будто изъеденными червоточиной зубами, очутилась на первых ролях здесь, в этом сплошном театре ужасов. Совдепская комиссарская мелюзга, в Пандурии он развернулся вовсю. Теперь ему приказано было состоять при Штамбарове, приказано самим Гришкой Апфельбаумом, он же Гришка Зиновьев.
Одетый во все кожаное и с маузером у пояса, Ганди-Дворецкий с гордостью носил кличку «Глаза Москвы».
Этот глаз Москвы поспевал везде и всюду. Он помыкал Штамбаровым, этим черномазым кумиром горничных и проституток. Он руководил внешней и внутренней политикой, он контролировал чрезвычайку, допрашивал видных «белогвардейцев», тут же собственноручно расстреливая их.
Он инспектировал Красную армию, назначая и смещая командиров, и чего он только не инспектировал и кого только не назначал и не смещал! Снабдив Ячина крупной суммой денег, он отправил его в Париж для «уничтожения» Адриана. Мы уже знаем, что эта командировка завершилась уничтожением самого Ячина.
Такой неожиданный финал поверг товарища Дворецкого в бешенство. Его глаза еще более налились кровью и еще более сделались кроличьими. В течение двух суток он рвал и метал, брызжа слюной, разносил такую же комиссарскую мелюзгу, какой еще недавно был сам, и в припадке острой и дикой жестокости расстреливал из своего маузера несчастных белых рабов.
Но еще более сильным, еще более горьким ударом была весть для него, что король не только жив и невредим, но находится уже среди повстанцев.
К бешенству присоединился еще и подлый страх ничтожного трусишки, и это чувство поглощало первое, было сильнее его. О том, что Адриан прилетел из Парижа в Трагону, Дворецкому стало известно раньше всех. Штамбаров еще ничего не знал. Дворецкий помчался к нему на бывшем автомобиле Маргареты с громадной красной тряпкой.
Во дворце полупьяный Штамбаров вместе с одной из своих любовниц, женой одного красного министра, увы, дамой из общества, рассматривал только что проявленные снимки, изображавшие его и даму в откровенных, ничем не прикрытых позах.
Стремительно вбежавший Ганди остановился на пороге и затопал ногами, – это относилось к «даме из общества».
– Убирайтесь вон! Оставьте нас вдвоем!
– Позвольте, на каком основании? – тяжело приподнимаясь, вступился Штамбаров за очередной предмет своего сердца.
– Вон! – повторил Ганди чекистским жестом, вынимая маузер.
Дама, подхватив горностаевый палантин и набросив его на свои чересчур обнаженные прелести, мигом вылетела из комнаты.
– В чем дело? В чем дело? – захлопал глазами Штамбаров, недовольный, что Ганди так бесцеремонно прервал его интересное времяпрепровождение.
– В чем дело? А в том, черт вас возьми, что Адриан прилетел в Трагону и с часу на час поведет против нас сюда этих своих головорезов.
– Чепуха! Не может быть! Вам наврали!..
– Раз я говорю, значит, это именно так! У меня самая точная информация. Понимаете?! Горцы стекаются к нему отовсюду, несут золото. Громадный подъем…
Штамбаров отрезвел вдруг.
– Будь же он проклят! И в огне не горит, и в воде не… Что же нам делать?..
– Что делать? Защищаться! У него – горсточка, а у нас – целая армия. У него нет артиллерии, – у нас двести орудий. У нас укрепленные позиции, и, я уверен, белогвардейские банды расшибут об них свой лоб.
Штамбаров, этот здоровенный бык, давно имел зуб против Дворецкого. Как-никак он, Штамбаров, у себя дома. Как-никак он – пандур, и вот им, пандуром, помыкает плюгавый, нахальный господин, и даже не свой, местный, а присланный из Москвы. Сейчас этот господин оскорбил и выгнал его, Штамбарова, даму, выгнал, как самую последнюю девку…
И захотелось уязвить одетого с ног до головы в кожу господина, посбить с него нахальство и спесь. Грузно опершись на стол, втянув кудластую голову свою в плечи и тяжело глядя исподлобья, он спросил ядовито:
– Товарищ, чего же вы так волнуетесь? Чего дрожит у вас голос, как овечий хвост, и сами вы настолько потеряли самообладание, что… уж не знаю, право, как все это назвать… Раз у него, Адриана, горсточка, а у нас целая армия, раз у них две-три каких-нибудь несчастных горных батарейки, а у нас целые сотни тяжелых орудий, раз вы уверены, что. они разобьют себе лоб и подступы к нашим укрепленным позициям будут могилой для этих королевских банд, – так чего же впадать в истерику? Надо ликовать, радоваться, что мы расколошматим в пух и прах не какого-нибудь генералишку, а самого Адриана, который считается одним из лучших полководцев в Европе. И тем более, честь этой победы, успех, триумф – будут всецело принадлежать вам… Вы – штатский человек, и вы вдруг победитель венценосного генерала…
– Что вы смеетесь надо мной? – спросил Ганди, потерявший как-то сразу весь свой апломб.
– Товарищ, не до смеху мне, не до смеху именно мне! – с ударением повторил Штамбаров. – В случае провала всей этой нашей авантюры, вы сумеете удрать, исчезнуть, а уж я-то, наверное, буду болтаться на фонаре…
– Напрасно вы себе так думаете. Я сумею исполнить свой революционный долг… И если Адриану посчастливится одержать верх и он ворвется сюда со своими звериными горцами, он перешагнет через мой труп! Клянусь вам!
Так говорил Ганди, а на самом деле у него все уже было готово к побегу в момент возможной катастрофы. Все! И фальшивый паспорт, и грим, и деньги, и маршрут. Да и Штамбаров менее всего представлял себе свою массивную неуклюжую тушу болтающейся на фонаре… И у него, как и у Ганди, имелись благоразумно припасенные и паспорт, и грим, и маршрут, и мешочек с бриллиантами, и несколько увесистых пачек валюты.
Собирая со стола неприличные фотографии, он заговорил уже в другом, примирительном тоне.
– Не будем ссориться перед лицом опасности. Давайте действовать дружно… Или вместе победим, или вместе погибнем. Верно, товарищ?
– Верно! Вашу руку! А сейчас давайте обсудим наше положение… Нашу, так сказать, ситуацию. Будем действовать… Больше активности! Больше инициативы! Сейчас же едем на фронт. Сейчас же… Но сначала я хочу предложить следующее: всю буржуазию, всех белогвардейцев, сидящих в тюрьмах…
– Расстрелять всю эту сволочь! – пылко подхватил Штамбаров, ударив кулаком по столу.
– Нет, отнюдь нет! – воскликнул Ганди. – Расстрелять эту сволочь мы всегда успеем… Пока же, пока мы выгоним всех на работы. Всех! Мужчин, детей, женщин. Их белыми руками мы превратим нашу красную столицу в неприступную цитадель! Мы изрежем окопами весь город! Вы понимаете мой план? Допустим недопустимое, что врагу ценой страшных потерь удалось прорвать наш фронт. Допустим. Тогда наша армия, отойдя в порядке, займет город и укрепится в нем. Истощенному Адриану с его сильно поредевшими бандами придется с боем брать каждый квартал, каждую улицу, каждое здание! Да мы их всех здесь уничтожим. Гениальная ловушка, не правда ли? – И, не дожидаясь похвал своему гению, Ганди продолжал: – А пока, перед отъездом на фронт, давайте напишем воззвание к солдатам и рабочим. Я прикажу немедленно отпечатать его в громадном количестве для расклейки по городу и для отправки на позиции. Берите перо, бумагу, я вам продиктую. Это должно быть кратко и выразительно.
И он продиктовал:
Товарищи! Все в окопы! Все за винтовки! Завоевания революции трудящихся в смертельной опасности! Кровавый Адриан ведет на вас деревенских кулаков и темных горских разбойников, чтобы вновь поработить вас и отдать во власть своих генералов, помещиков и банкиров. Товарищи! Враг у ворот! Он близок! Близок этот коронованный душитель свободных крестьян и рабочих. Товарищи, крепко сжимайте мозолистыми руками винтовки! Все на Адриана! Все на остервенелую стаю белогвардейских псов!
– Вот и все! Довольно. Поставьте два восклицательных знака. Даже три… Не правда ли, очень сильно?..
– Очень! – похвалил Штамбаров.
– Посылайте в типографию! Да, напишите сверху: «Жирный шрифт. Семьдесят пять тысяч». Едем же, едем на фронт! Да, соедините меня с главным политическим управлением. Я прикажу вызвать инженеров, согнать буржуазию и, не теряя ни одной минуты, начать окопные работы…
– Есть, товарищ!..
Ганди подошел к телефону.
38. В городе и во дворце
Раз только представляется удобный случай унизить буржуазию и как-нибудь по-новому еще поиздеваться над ней, ради этого удовольствия большевики готовы пожертвовать даже насущными интересами своими.
Так было и в данном случае.
Ганди-Дворецкий, с чисто обезьяньей повадкой перенимавший все трюки и гримасы сановных горилл русской Совдепии, как бездарный и тупой красный чиновник, хотел повторения в малом масштабе того, что в более крупном проделал в Петрограде его недосягаемый идеал Бронштейн-Троцкий в дни похода Юденича на Петроград. Как тогда в Петрограде, так теперь в Бокате Дворецкому казалось адски эффектным согнать всю буржуазию и всех арестованных белогвардейцев на работы по рытью окопов. Гораздо полезней для дела, казалось, было бы снять с позиции две роты солдат, сильных, привычных к тяжелой работе, чтобы под наблюдением саперных офицеров они изрезали столицу сетью окопов, если так уж очень хотелось этого великому стратегу Максу Дворецкому-Ганди.
Но что такое солдаты с кирками и лопатами? Кто на них обратит внимание? Кого ударишь этим по воображению? Где здесь революционная политика? Совсем другое впечатление, когда за лопаты и кирки возьмутся жены и вдовы офицеров, депутатов, профессоров и сами офицеры, депутаты, профессора.
Не успел всесильный сморчок с желтыми зубами распорядиться по телефону, как через четверть часа уже по всему городу начались облавы. Чекисты и комиссары выволакивали из трамвайных вагонов мужчин, дам, подростков, хватали прохожих с криками, побоями и бранью, сгоняя в разные пункты города большие толпы, охваченные паникой, оторванные от дела, от дома и от семьи… К этим же пунктам сходились узники и узницы, выведенные под конвоем из тюрем. Бледные особой желтовато-восковой тюремной бледностью, месяцами томившиеся в духоте и вони, люди пьянели на свежем воздухе, слабея, испытывая головокружение и приступы голода, особенно мучительные после прогулки под открытым небом. Несчастные озирались, как выпущенные из клетки звери. Все было так ново, – и городской шум, и перспективы улиц, и ощущение под ногами панелей и асфальта, вместо грязных, заплеванных полов общих и одиночных камер. Главное же – новые лица, новые, хотя было много знакомых, ставших такими интересными после примелькавшихся компаньонов по заключению и опротивевших тюремщиков и чекистов.
Оказалось, что на воле не было ни одного инженера. Всех инженеров, понадобившихся пролетарскому отечеству, дали чрезвычайки и тюрьмы. Таких набралось человек пятнадцать. Их выделили в одну группу. К ним подошел Рангья, красный министр путей сообщения, одетый в фантастическую форму с большим револьвером на животе.
Презрительно глядя на отощавших, бледных инженеров из-под своих набухших век, Рангья обратился к ним:
– Я знаю, что все вы злостные контрреволюционеры и саботажники! Но вы должны быть полезны как специалисты и своими знаниями послужить революции. Займитесь окопными работами. Если вы будете добросовестны, вы получите амнистию. Если же вы и теперь будете продолжать злонамеренный саботаж, тем хуже для вас! Мы беспощадно расправляемся с врагами народа.
Кончив, повернулся спиной к «злонамеренным саботажникам», самодовольно поглаживая рукой в перчатке свои накрашенные усы.
Буржуазия битых два часа томилась, пока доставили лопаты и кирки. Да и этих орудий хватило едва ли на одну десятую запуганного человеческого стада.
Инженеры изо всех сил притворялись, что и в самом деле планируют окопы, и с озабоченным видом махали ослабевшими, прозрачными руками, чертили по воздуху какие-то линии.
Прыщавый молодой офицер из красных курсантов, грозя инженерам казацкой, совсем не демократической нагайкой, исступленно выкрикивал какие-то угрозы. Больше для успокоения своей красной совести. Ибо сам ни черта не понимал в этой неразберихе.
Какие окопы, где окопы, зачем окопы?
Тем более, это был столь же неблагодарный, сколь и титанический труд. Привычные саперные команды, – и тех прохватил бы седьмой пот, что же говорить об этих барышнях, гимназистах, дамах, профессорах, художниках, одряхлевших, трясущихся вместе со своими фесками купцах-мусульманах, которые тяжелыми кирками должны были дробить асфальт и выковыривать из мостовой камни, чтобы потом уже заняться рытьем окопов.
Так в этом никчемном ковырянии, в бессмысленном топтании на месте прошел весь день. Чекисты, злые, свирепые и без того, свирепели еще больше от сознания близкой, подкатывающейся опасности. Им бы удрать охота, спасая вместе с головой награбленное, а тут, не угодно ли, укрепляй рабоче-крестьянскую столицу. И они вымещали свою злобу на бесправных, беззащитных рабах и рабынях. Чуть кто зазевался или даже не так посмотрел, – обжигающий удар нагайкой по лицу, по голове, по плечам. Женщин эти мерзавцы норовили ударить ниже спины, чтобы вместе ударить и по стыдливости, больней оскорбить…
Но как ни было запугано все это буржуазное быдло, паника улеглась понемногу, и к вечеру как-то незаметно приподнялось у всех настроение.
Эти дурацкие окопы, плюс еще расклеенное повсюду воззвание, – лучший показатель, что пролетарское отечество по всем швам трещит… Выгнанная на работу интеллигенция, при всей забитости своей, не могла скрыть овладевших ею надежд. Блестели глаза, и даже бледные, истощенные лица вспыхивали румянцем. Боялись говорить, перешептываться, боялись перекинуться несколькими словами по-французски. И в этом не было необходимости. Выражение лиц, глаз было само по себе так красноречиво-понятно!
Подло-преступными глазами, то жирно-свинцовыми, то убийственно-холодными, зорко наблюдали чекисты за своими рабами, скорей хищным инстинктом угадывая творящееся в душах этих белых негров…
И там, и сям слышались угрозы:
– Погодите, сволочи, радоваться, погодите! Придет ли сюда, не придет кровавый Адриан, – вам один конец! Пуля в затылок! – и свистели нагайки, разрывая платье, проводя багровые полосы на лицах…
Пришла ночь. Зажгли костры. Их трепетное пламя и горячие отсветы, игра теней – все это создавало настроение чего-то полного тревоги и жути и почти красоты, почти, если бы все это не было так отвратительно.
И чем дальше к ночи, тем более нервничали власти. Как угорелые, носились автомобили с протяжным воем сирен и с озабоченными комиссарами. А буржуазия без отдыха, без пищи и даже без воды ковыряла мостовую, вернее, делала вид, что ковыряет. Инженеры притворялись, что руководят всей этой бессмысленной, идиотской затеей. Да и само начальство в глубине пролетарских душ своих осваивалось с убеждением, что и в самом деле приказ товарища Ганди – нудная и глупая чепуха. Сам, впрочем, товарищ Ганди был несколько иного мнения.
Вот и полночь. Вот двенадцать певучих ударов. Звон старинных башенных часов, такой мелодичный, так воскресающий далекое былое, как может только воскрешать запах и звук.
В первые дни переворота, когда Мусманек сидел уже во дворце, чернь хотела испортить башенные часы под предлогом, что и часы, и башня – пережиток кровавого, – у них все кровавое, – феодализма и что мелодичный бой курантов в течение веков услаждал буржуазные уши! Тимо, пославший офицерский караул, помешал кучке вандалов исполнить свою угрозу. А потом, потом буржуазные куранты были забыты и уже не возмущали больше демократический слух.
Не успел растаять в воздухе последний удар, как с позиций, – они находились километрах в двадцати, – донеслись пушечные выстрелы. Сначала вразброд, в одиночку, а затем уже густыми-густыми очередями. Согнанные на работу офицеры, – артиллеристы же в особенности, – разбирались в этой орудийной музыке, безошибочно угадывая не только калибры, но и самые оттенки, – шрапнель, бризантный снаряд, гаубица, крепостное орудие, снятое с прибрежных фортов. Угадывали, что бой идет по всему фронту. Вздрагивали в соседних домах стекла. Уже вдали вспыхивали в темных небесах короткие зарева, вспыхивали, погасали, а красно-синие и голубые ракеты ослепительными тонкими дугами чертили темный фон…
Где-то совсем недалеко решается судьба Пандурии, – останется ли надолго еще красной или к утру уже проснется монархией? Или – или…
Ничего затяжного, длительного быть не может.
Все судорожнее метались комиссарские машины, уже забывая сигнализировать сиренами и давя людей.
Артиллерийский огонь скоро начал смолкать, слышались только одиночные выстрелы, беспорядочно-случайные. Обе стороны объясняли это каждая по-своему. Приободрившиеся чекисты решали:
– Красные гонят белогвардейскую сволочь!
Окопная буржуазия, не смея высказывать своих мыслей, думала с биением сердца:
– Король побеждает! Король освободит нас!
Офицеры-артиллеристы были ближе всех к истине, догадываясь: что-то произошло, чего они еще не могут выяснить, но произошло несомненно, иначе двести советских орудий не замолчали бы так странно.
А произошло вот что.
Адриан осуществлял свой выработанный совместно со штабом план. Этот план – демонстрация на флангах и сосредоточенный в центр «кулак» для прорыва. Две горные батареи – вся повстанческая артиллерия – открыли огонь, чтобы вызвать ответный огонь противника. И когда загрохотали все большевицкие пушки, десять белых аэропланов, снизившись на сто пятьдесят метров, переносясь от одной батареи к другой, засыпали их бомбами громадной разрушительной силы. Таким образом, в полчаса от мощной артиллерии красных уцелели жалкие недобитки, да и то потерявшие и кураж, и сердце, с терроризированной прислугой, в панике разбегавшейся куда глаза глядят.
Исполнив одно задание, летчики с таким же успехом, так же дерзко снижаясь на сто пятьдесят метров, уже другими бомбами прокладывали хаотические коридоры в тех самых проволочных заграждениях, на которые большевиками возлагалось столько упований и о которые, по их мнению, Адриан должен был расшибить лоб…







