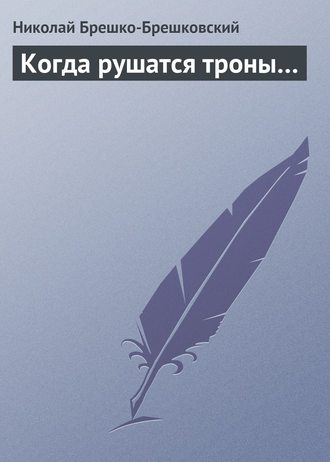
Николай Брешко-Брешковский
Когда рушатся троны…
24. Призрак диктатуры
Тимо очнулся…
Сначала, в первый момент, не сообразил, где он и что все это значит. Он так сжился со своей меблированной комнатой, а здесь, с этих стен, глядят на него величавые портреты. С потолка смотрит плафон, перевитый гирляндами лепных золоченых барельефов.
Вырос щеголеватый, высокий, нарумяненный Ячин.
– Ну, что? – привскочил Тимо, забывший и свой обморок, и свои ранения.
– Как сквозь землю! И не только он, а и мать, и жена!.. все!..
Ячин хотел еще что-то прибавить, но был страшен Тимо. И это впечатление усугублялось еще забинтованной головой. Это не был гнев. Это было бешенство.
– Если он исчез, если он избежал нашей мести… Даю тебе слово, слово Тимо, – я застрелюсь!..
– Не говори глупостей… Ты потерял много крови… у тебя повышена температура…
Тимо подошел к нему вплотную. Черты его исказились, и он как-то шипяще бросил прямо в чисто выбритое, с подведенными глазами лицо Ячина:
– Молчи!.. Ты ничего не понимаешь!..
А не понимал «музыкальный майор», да и не мог понять творившегося в сердце Тимо. Злоба эта и бешенство, захлестнувшие Тимо, были не столько против Адриана, сколько против самого же себя. Случилось то, чего он никак не предвидел. Адриан скрылся и объявится где-нибудь уже недосягаемый, неуязвимый. Неужели стоило затевать всю эту резню, весь этот ужас? Для кого и для чего? Чтобы пустить к власти Абарбанелей, Мусманеков, Шухтанов? Да будь они трижды прокляты! Он, Тимо, ненавидит Адриана, ненавидит, но, по крайней мере, уважает и как монарха, и как солдата, а этих господ и не уважает, и презирает.
Вот что огненным вихрем пронеслось в его отяжелевшей голове. Но что сделано – сделано, кровь пролита… много крови! Павших уже не воскресишь, зверь выпущен из клетки. Он здесь, близко, он кругом – этот зверь… Гогочет, рычит, упивается королевским вином и возможностью невозбранно бесчинствовать, грабить.
Ячин знал своего друга Тимо. В такие моменты необходимо нажать какой-то клапан и, подобно пару, выпустить излишек того, что клокочет внутри.
– Слышишь, Тимо? Ворвалась чернь… Совсем то же самое, что было в Петрограде в Зимнем дворце…
– Что? Я им покажу Зимний дворец! За мной! – и, выхватив свою с густо запекшейся кровью саблю, Тимо бросился разгонять ворвавшуюся улицу.
– Вон отсюда, негодяи, канальи! Вон, сволочь! – и, не глядя, он бил плашмя по головам, по рукам, по спинам, по чем попало, бил, не разбирая, всех-и агитирующих «интеллигентов», и каких-то темных прохвостов, «загримированных» рабочими, и визжащих баб, и матросов, обвешанных красными бантами, пулеметными лентами и ручными гранатами.
Он – один. Ячин благоразумно держался поодаль, – а их десятки, сотни, – здоровенных, опьяневших, обнаглевших, разнузданных… Они, особенно матросы, щелкали зубами и, огрызаясь, хватались за револьверы. Но никто на смел не только броситься на Тимо, а даже ослушаться. Так тигр, одним взмахом лапы могущий превратить своего укротителя в бесформенные клочья мяса, боится его и, пятясь к железным прутьям клетки, спружинивается для гигантского прыжка… А в конце концов, подгоняемый хлыстом, прыгает сквозь цветной обруч.
Войдя во вкус производимой им дезинфекции, играя с огнем, бессознательно упиваясь сладким ядом власти над этим двуногим зверем, Тимо подвигался все дальше и дальше, очищая один за другим и тронный зал, и концертный, и анфилады гостиных. Но чернь успела уже везде и повсюду напакостить. Разорванные картины, обломки мраморных бюстов, срезанные драпировки, залитая вином и еще чем-то мягкая, гобеленами обитая мебель.
Какой-то запыхавшийся черноглазый молодой человек, уже с красным бантом, уже с красной повязкой на рукаве бархатной куртки, уже самозваный углубитель революции, нагнал Тимо:
– Товарищ полковник, уже все собрались!.. Ждут вас…
– Где собрались? Кто ждет?..
– Скорей, товарищ! Я приехал за вами… Нас ждет машина…
– Да вы сначала отвечайте на мой вопрос, черт вас дери совсем! – прикрикнул Тимо.
– Виноват, сами знаете, – спешка… Там, у Абарбанеля… Уже собрались… Мусманек, Шухтан, Ганди, Савинков… Признавший революцию министр Рангья… и еще… Скорей же, товарищ!..
– Пусть подождут! Видите, я очищаю дворец от хулиганья… А вы… не теряйте меня из виду.
– Товарищ, это совсем невозможно… И затем – такие меры… Вы вооружаете против себя демократию…
– Еще одно слово, и я прикажу вас арестовать…
«Углубитель революции» понял, что с этим «солдафоном» шутки плохи, сократился и с выдавленной улыбочкой поджал хвост.
Вершители судеб пандурской демократической республики только тогда отважились собраться у Абарбанеля, в его роскошном особняке, оберегаемом офицерским патрулем, когда выяснилась победа по всему фронту.
Когда было известно уже, что дворец захвачен, хотя и ценой больших потерь, когда выяснилось, что весь город уже в руках восставших, а на всякий случай к кавалерийским казармам, и без того терроризированным огнем морских пушек, двинуты броневые машины и артиллерия…
Только тогда, узнав самую последнюю новость, что жандармерия и полиция разоружены, пришли в себя и Шухтан, и Мусманек, и Ганди, и холодный липкий страх, такой подлой животной дрожью колотивший этих трусов, стал понемногу улетучиваться.
Собрались в готическом, разделенном на две половины острой готической же аркой, кабинете Абарбанеля. Кроме хозяина, Шухтана, Мусманека и Ганди, был еще министр путей сообщения барон Рангья, был Савинков, бледный, важный, почти священнодействующий, со своим волчьим лбом. Он выглядел каким-то колониальным охотником.
Английский, ловко сидящий китель, к этой ночи специально сшитый. Два ремня крест-накрест на груди, ремень вокруг пояса, и на нем – тяжелый маузер. Защитные галифе, желтые кожаные гетры, желтые ботинки. Едва Савинков успел войти, кабинет наполнился запахом аткинсоновского «Шипра».
В эту ночь Савинков успел проявить большую активность. Что-то делал, кого-то арестовывал, куда-то ездил, кого-то расстреливал. Он хотя и молчал, дымя сигарой, предложенной Абарбанелем, но всем своим надменно холодным видом говорил: «Все вы здесь – жалкие, мокрые курицы! Забившись по своим щелям, выжидали. А я, старый бомбист и революционер, не прятался, не выжидал, а действовал, и, если бы не я, еще неизвестно, какой бы все это приняло оборот…»
«Историческое» совещание, – оно должно войти в историю, – не клеилось как-то. Все еще не могли прийти в себя, и даже дон Исаак, менее всех скомпрометированный и более всех забронированный. Шухтан, Мусманек и Ганди пытались говорить, но ничего не выходило.
Им чудился мерный конский топот, чудился Адриан во главе своих лихих-эскадронов, и слова застревали в горле, а зубы предательски выбивали дробь… Министр путей сообщения сопел из-под крашеных усов и вытирал покрывшееся испариной лицо.
– Мы подождем главного виновника… торжества, – хотел сказать Абарбанель и поправился, – событий…
И все обрадовались этому предлогу помолчать еще каких-нибудь четверть часа, и все, кроме Савинкова, поспешили отозваться:
– Да, да, конечно…
И потянулись неприятные, неловкие минуты в готическом кабинете. Выстрелов почти уже не было, но все же за этими узкими стрельчатыми окнами в свинцовой пайке с цветными пажами и принцессами притаилось что-то взвинчивающее нервы, необъяснимое, жуткое. Еще не было времени осмыслить умом и понять свершившееся…
И чем больше цеплялись одна за другую медленно ползущие минуты, тем больше дон Исаак внешним возмущением маскировал внутренний страх свой:
– Что же это Тимо не едет? Это безобразие прямо! Раз я послал за ним…
Наконец, когда всем наскучило ждать, молчать и рассматривать гигантские, как алтари, восьмисотлетние резные шкафы черного дуба с тысячами фигур животных, людей и птиц, вошел солдатской тяжелой поступью Тимо.
В этот кабинет, с глушащими шаги бесценными коврами, вошел он, высокий, худой, с забинтованной головой, с перевязанным плечом, в разорванном мундире; в эту атмосферу миллионов и безмятежной размеренной роскоши внес он вместе с собой только что отгоревший кровавый кошмар схваток грудь с грудью, выстрелов в упор, сабельных ударов, последних проклятий…
И, никому не кланяясь, он опустился в кресло в обычной для него, неудобной для других и удобной для себя позе. А свою саблю положил поперек на колени, держа ее обеими руками, и – так и застыл.
Он был похож на конквистадора, завоевавшего с горстью таких же, как и сам, авантюристов неведомую страну. И вот, вернувшись, он положил ее к ногам правительства… Но пусть это правительство не забывает, что он, конквистадор, знает хорошо цену и себе самому, и своим авантюристам, и своему тяжелому мечу, который он держит на виду, крепко держит обеими руками…
И все сразу поняли, что перед ними в этом кресле с высокой спинкой – диктатор. Поняли, что приказывать и говорить будет он, а они будут исполнять и слушаться…
Но еще не успел Тимо собрать мысли, как за дверями кабинета послышалась какая-то возня. Кто-то кого-то не пускал, кто-то хотел прорваться. Все переглядывались в испуге, все, за исключением Тимо, окаменевшего в позе конквистадора, и Савинкова, выхватившего свой маузер.
Распахнулись массивные дубовые двери, и вошли два матроса, – один вооруженный, другой весь в крови и в наспех сделанных перевязках.
– Они все бежали на «Лауране»… Все… Товарищ видел… Зорро его подстрелил… и он дополз… и все рассказал…
25. То, чего никак не ожидали
А там опять вспыхнуло огоньком орудие, но уже не так явственно донесся противный металлический визг. На этот раз не перелет, а недолет, и тоже, примерно в полутысяче шагов от «Лаураны», мощно взметнулся фонтан воды, пены и густых клубов дыма.
Все чаще и чаще… Миноносец бил из нескольких орудий, бил, к счастью, прескверно, и напрягавшая последние силы «Лаурана» бежала, будучи как бы центром широкого кольца разрывов. Боже, сохрани и помилуй, если это кольцо начнет смыкаться… Лейтенант и король в один голос решили:
– Да они все там пьяны…
И действительно, другого объяснения быть не могло. Слишком уж беспорядочен и не меток был огонь «Бальтазара». Угадывалось отсутствие офицеров-артиллеристов. Да и откуда же им взяться, если все они сидели под арестом, согнанные в одну каюту, и хозяином положения была остервеневшая, пьяная от успеха и от вина матросня…
А далеко, где-то на линии встречи морской глади с небесами, всплыл оранжевый диск таких больших размеров – получалось впечатление театральной декорации, а не настоящего солнца. Не было еще ослепительного сверкания. Был ровный, четко и ясно отмеченный крут, словно вырезанный из цветной бумаги.
Уже больше, чей наполовину, плыл этот круг над водой и, зажегши морскую зыбь косым, длинным снопом оранжевых лучей, следил за обстрелом изнемогающей «Лаураны». И при свете солнца еще фантастичнее были разрывы, нежно окрашиваемые и в золото, и в жемчуг, в опал и перламутр.
Но тем, кто был на «Лауране», тем было не до эстетики. Все заметней и заметней сближение… Преследователям уже незачем тратить снаряды. Зачем, когда «Бальтазар» через несколько минут настигнет «Лаурану» в виду берегов Трансмонтании, уже из призрачных ставших реальными, настигнет и…
– И что произойдет потом? – высказал Друди. – Они возьмут нас в плен или, по крайней мере, то, что было нами, – наши трупы. Но мы дорого продадим себя. У нас есть «гочкис» и два пулемета…
Дерзкая мысль, мысль, внушенная безнадежностью положения, безумием, отчаянием, осенила Друди. Он рискнет, рискнет всем и всеми, благо все кругом – сплошной риск, сплошная обреченность…
Когда нет выбора и нет даже традиционной «соломинки», которая полагается каждому утопающему, почему же, в самом деле, не попытать счастья?
Словом, лейтенант Друди, этот Давид со своей «Лаураной», вздумал вступить в единоборство с Голиафом – «Бальтазаром». Сблизившись на полкилометра, он прямой наводкой, одним выстрелом из своего «гочкиса» попробует пустить миноносец ко дну.
Это было уже почти у самой Ферраты. Уже революционный миноносец, вопреки всякому международному праву, нахально ворвался в чужие воды. В морском штабе Ферраты уже слышна была пальба на море, уже в бинокль замечен был «Бальтазар», осыпающий снарядами какое-то жалкое суденышко. Уже по телефону дан был приказ двум миноносцам выйти для энергичной разведки, не исключавшей и захвата чужеземного «истребителя», осмелившегося без предупреждения и с боем ворваться в пределы – это уже ее пределы – Трансмонтании.
Вслед за миноносцами бросилось несколько моторных лодок, подгоняемых любопытством. Корреспонденты, большевики, люди, тесно связанные с биржей, и просто те, кто имел моторную лодку и был разбужен бомбардировкой, – каждый по-своему спешил навстречу сильным ощущениям.
Но пока задвигался, засуетился и замелькал рейд красавицы Ферраты, пока сама «красавица», словно сбросив одежды свои, в лучах солнца, нагая, разметалась рощами своими, храмами, тонкой кружевной готикой, старинными дворцами, кипарисовыми кладбищами, «Бальтазар» и «Лаурана» уже почти сблизились на ту дистанцию, какая нужна была лейтенанту Друди.
Простым глазом отлично был виден взбунтовавшийся миноносец, весь в красных тряпках и с толпой матросов. Доносился их ликующий рев… Они уже прекратили огонь… Зачем огонь, когда сейчас же, сейчас возьмут они живьем всех беглецов-пассажиров и связанных, оскорбляемых, с триумфом доставят в революционную столицу…
В это мгновение сам лейтенант наводил свою «игрушку», сам же и дернул шнурок. Снаряд попал в середину миноносца, в подводную часть. Разрыв с грохотом, пламенем и треском – не оставлял никаких сомнений… Друди тотчас же бросился к пулемету и начал засыпать свинцовым дождем человеческое стадо, панически заметавшееся на маленькой, узкой палубе.
Радостный, ликующий гул сменился воплями отчаяния.
А когда подоспели трансмонтанские миноносцы и моторные лодки, все было кончено. Им досталось одно – вылавливать раненых и здоровых матросов, смытых волной с «Бальтазара». Сам же «Бальтазар» шел ко дну, и только трубы его поднимались еще над поверхностью моря.
Офицеры обоих миноносцев, узнав короля Пандурии, не покидавшего капитанского мостика и такого заметного в своей гусарской форм, отдали ему надлежащие почести.
Через полчаса все вместе, целой маленькой флотилией вошли в порт. «Лаурана» и так стремительно разыгравшиеся вокруг нее события были первой весточкой для Европы и для всего света о революции в Пандурии. Все средства извещения были тотчас же использованы. Телеграф, морской кабель, телефон, радио. Стаей птиц вылетали по всем направлениям эскадрильи почтовых аэропланов. И раньше всех правительств, монархов, президентов узнала о перевороте мировая биржа, узнали международные банки. Биржа и банки, – именно то, что фактически властвует на земле.
Потрясающая сенсация облетела Феррату, и не успела «Лаурана» пришвартоваться к гранитному молу, вся набережная уже кишела тысячной толпой. Полицейские и жандармы с трудом прокладывали в этой человеческой гуще путь для беглецов, стиснутых двумя живыми стенками. Давили друг друга, чтобы увидеть, как рослый, плечистый офицер несет больную королеву Пандурии, бывшую трансмонтанскую принцессу, увидеть Адриана в черном плаще, – этот морской плащ лейтенанта король накинул на себя, чтобы меньше бросалась в глаза его яркая форма.
Глядя перед собой, никого не замечая, с надменно застывшим лицом шла Маргарета.
Не было оваций, приветствий. На лучший конец, было оскорбительное, праздное любопытство зевак, на худший же – крики:
– Поделом этим убийцам, тиранам! То же самое и со своими сделаем!..
Так встречали местные и советские коммунисты сверженную династию Пандурии, только что вступившую на трансмонтанскую землю. Жандармы, в высоких киверах, оттесняли карабинами слишком назойливых из этой горланящей потной, раскрасневшейся черни.
Бледный, стиснув зубы, двигался Адриан под перекрестным огнем подлых выкриков и глумлений.
Слава Богу, путь был очень, очень короток. Сотня шагов всего какая-нибудь до отеля «Мажестик», высившегося у самой набережной эффектной громадой своих шести этажей.
26. Два короля
Лилиан почти никогда не пользовалась преимуществами высокого положения своего или, – это, вернее, пожалуй, – не замечала его.
Вот и теперь, очутившись в номере гостиницы вместе с Памелой, она ушла целиком в одно: как бы под впечатлением всех потрясений, буквально с кинематографической быстротой промелькнувших, Памела не разрешилась несчастными, преждевременными родами.
Совсем другое – мать и брат. И хотя оба они были такие доступные, благородно-простые, однако и власть, и почет, и блеск, окружавшие их до сих пор, – все это было для них родной стихией, было тем воздухом, которым они дышали. И в одну ночь, опять-таки с кинематографической быстротой, – нет ни власти, ни всего тесно переплетенного с ней. Даже нет клочка своей территории, а вместо дворца, тысячелетнего гнезда Ираклидов, – номер «Мажестика», быть может, вчера очищенный каким-нибудь спекулянтом.
Оставшись одна у себя, Маргарета дала волю слезам, что вообще допускалось этой сильной, твердой женщиной в исключительных случаях. В самом деле, ничто так не портит женскую красоту и свежесть, как слезы. А мы знаем, до чего заботилась королева-мать о своей красоте и неувядаемой свежести… Она чувствовала себя такой разбитой, подавленной, такой измученной и физически, и морально. Другая на ее месте, свалившись, уснула бы тем мертвым, тяжелым сном, который почему-то называют «свинцовым».
Но Маргарета, позвонив опрятную, в белом чепце горничную и проведя параллель между ней и вероломной Поломбой, – к невыгоде Поломбы, – заказала едва-едва теплую ванну. Культ тела – прежде всего! С освеженным, чисто вымытым телом легче как-то переносятся все невзгоды жизни.
В силу таких же соображений взял Адриан холодный душ и, выхватив у Зорро мохнатое полотенце, растер им докрасна мускулистое тело свое. Живее переливалась кровь, бодрее забегали мысли.
Он говорил своему адъютанту и Бузни:
– После такой милой встречи… Что будет дальше? Какая травля начнется! Я останусь здесь ровно столько, сколько необходимо портному, чтобы в спешном порядке одеть нас всех с ног до головы.
– Как, Ваше Величество не желает быть гостем королевской четы?! – удивился Бузни. – Вы можете таким образом их смертельно обидеть…
– Да?.. А мне кажется, я их гораздо чувствительнее обижу, оставшись их гостем. Да и не только их, а и себя… Безработный король, живущий во дворце у своих тестя и тещи, – это самая худшая, самая унизительная разновидность приживальщика. Ну, а затем, милейший Бузни, вы сами успели убедиться, чем здесь пахнет. Во-первых, я не желаю, чтобы коммунисты требовали моего удаления, а во-вторых, не желаю вторично попасть в переделку. Довольно. Довольно с меня Бокаты…
– А я думал как раз наоборот, Ваше Величество… Что вам надлежит находиться поближе к Бокате.
– Забудьте об этом! Это – затяжное… Так, академически, даже очень красиво… Проходит месяц… Народ и войска свергают узурпаторов, и под звон колоколов, на белом коне въезжает король в столицу… Нет, уж если выжидать, так лучше в Париже, где мне не будут устраивать кошачьих концертов… А пока вот что, Джунга, давайте нам скорей лучшего портного. Пусть возьмет втридорога, зато через двадцать четыре часа мы будем экипированы.
Хотя Феррата не была столицей, но это был самый многолюдный, самый большой, самый богатый город во всей Трансмонтании. Находившаяся же в часе езды столица имела вдвое меньшее число жителей и казалась гораздо провинциальнее, чем пышная, клокочущая жизнью Феррата.
Извещенные по телефону, приехали в автомобиле король Филипп и королева Элеонора. Сначала они прошли к Памеле. Мать осталась у дочери, а отец очутился по соседству с глазу на глаз с Адрианом.
Филипп, высокий, худой, с маленькой головкой, был «штатский» монарх. Он почти не носил военной формы, да она и не шла к его длинной узкоплечей фигуре. В пиджаке ему было гораздо лучше, чем в мундире.
Он пытался шутить:
– Нет, положительно, наше ремесло с каждым днем становится… становится, как бы тебе сказать…
Шутка не удалась. Жалостливо, беспомощно улыбался Филипп. В том, что случилось в Бокате, он видел зловещее для себя предостережение: «Сегодня ты, а завтра я…»
Адриан молчал. Да и что мог ответить он, только что на себе самом испытавший все превратности и капризные случайности «королевского ремесла»?
– Однако же вам здесь неудобно в этой… гостинице, – продолжал тесть. – Не бесприютные вы какие-нибудь… Мой дворец – ваш дворец… Как-нибудь потеснимся… – опять пошутил трансмонтанский король, этой шуткой маскируя тайную досадную мысль, что свергнутая династия будет для него обузой и в смысле расходов и, главным образом, в политическом отношении. Левые начнут всех собак вешать…
Он осторожно полюбопытствовал:
– А как же материальная сторона? Есть у тебя что-нибудь в заграничных банках?.. Успели вы захватить с собой ценности?..
– В европейских банках ничего нет лично у меня, – пожал плечами Адриан, – мой адъютант захватил какие-то пустяки, – он указал на лежавший на столе несессер. – Что же касается мама, ей посчастливилось спасти свои бриллианты.
– Все это очень хорошо, но ведь этого не хватит надолго…
– Не будем думать о завтрашнем дне. Будем жить сегодняшним, – ответил Адриан. – Теперь все так хрупко, изменчиво…
– Да, да, конечно, – поспешил согласиться трансмонтанский король. – А вот что самое главное: твоя сестра сказала мельком в двух словах… Это же прямо чудесное спасение. Двойное! И там, и здесь, на море… Пустить ко дну миноносец одним выстрелом какого-то жалкого «гочкиса». Нет, воля твоя, Адриан, тебе повезло. Всем вам повезло… Но этот юный лейтенант! Совсем мальчик, и уже такой герой! Знаешь, я охотно взял бы его к себе на службу… Я произведу его в следующий чин и… как ты думаешь?.. Такие люди в наше время не имеют цены… Их так мало, – честных, доблестных, решительных… Как ты думаешь?..
– Я думаю, что это невозможно. Друди очутился в таком положении… Самое лучшее для него – на время исчезнуть совсем. Ты понимаешь, сколько ненависти обрушится на него?.. И за то, что он спас меня, и за то, что пустил на дно моря целую шайку пьяных мятежников… Если бы ты даже взял к себе Друди, социалисты немедленно потребовали бы его удаления. И, наконец, поскольку я его знаю, он не кондотьер и шпагой своей вряд ли будет….
Шум снизу, с набережной, привлек внимание обоих королей. Они подошли к окну. Со второго этажа им было видно все.
Толпа в несколько сот человек, всё время, как лавина, увеличиваясь, над волной своих голов несла матросов с «Бальтазара», выловленных трансмонтанскими моряками. Махая флажками, еще мокрые после холодной ванны, протрезвившей их, матросы горланили что-то. И сквозь беспорядочное сумбурное «что-то» можно было расслышать:
– Смерть Адриану! Смерть коронованным убийцам!..
Адриан и Филипп переглянулись.
– Видишь, как сразу обнаглела здесь чернь после переворота в моей стране… А ты еще предлагаешь мне свое гостеприимство… Сначала у меня было желание уехать вместе с мама, а Памелу и Лилиан оставить у вас. Но теперь об этом не может быть и речи. Я их возьму с собой…
Высокий, худой, узкоплечий король, такой слабый и немощный в своем королевстве, молча поник головой. Адриан тихо сказал:
– Тебя может спасти какой-нибудь свой собственный трансмонтанский Муссолини… Или ты погибнешь… Вы все погибнете… – и, вспомнив Памелу, такую же узкоплечую, слабую, как и отец, он мысленно добавил: «Погибнете, потому что выродились, утратив умение властвовать, и она, эта непостижимая таинственная власть, уже выскользнула из ваших дряблых рук. Вы – обреченные»…
А с улицы сквозь гул врывалось отдельными выкриками:
– Долой Адриана!.. Долой… Вон!..
Буржуазия, трусливая, с заячьей, робкой душой сидела по домам, либо из кофеен и ресторанов смотрела на все эти бесчинства обнаглевших подонков.
А если бы она вышла на улицу одной своей компактной «массой», она смела бы, развеяла бы демонстрацию черни.







