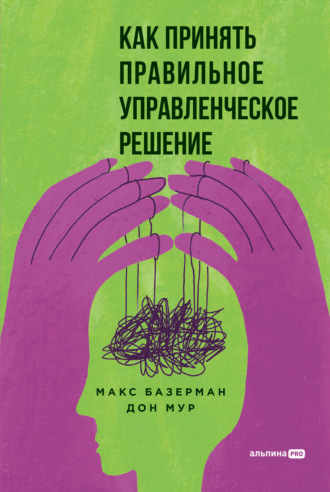
Макс Базерман
Как принять правильное управленческое решение
Искажение 10. Ошибка связанных и несвязанных событий
Задача 10. Что из нижеперечисленного кажется наиболее вероятным? Вторым по вероятности?
А. Вытащить из мешка, в котором поровну красных и белых шариков, красный шарик.
Б. Вытащить из мешка, в котором 90 % красных и 10 % белых шариков, красный шарик семь раз подряд, каждый раз возвращая шарик обратно.
В. Вытащить из мешка, в котором 10 % красных и 90 % белых шариков, хотя бы один красный шарик за семь попыток, каждый раз возвращая шарик обратно.
Самая распространенная последовательность ответов: Б–А–В. Интересно, что верный ответ в порядке убывания вероятностей – В (52 %), А (50 %), Б (48 %) – имеет порядок, обратный интуитивному! Этот пример иллюстрирует общую тенденцию переоценивать вероятность конъюнктивных событий – событий, которые должны произойти одновременно (в совокупности) (Bar-Hillel, 1973), и недооценивать вероятность дизъюнктивных событий, то есть происходящих независимо друг от друга (Tversky & Kahneman, 1974). Так, когда должны произойти все составные части события (вариант Б), мы переоцениваем вероятность этого, а когда должно произойти хотя бы одно из ряда событий (вариант В) – недооцениваем.
Как мы обсуждали в главе 2, переоценка вероятности конъюнктивных событий может привести к переоценке будущих результатов и ошибкам планирования. Люди, компании и правительства регулярно становятся жертвами искажения конъюнктивных событий в части распределения временных и финансовых ресурсов на проекты, требующие многоэтапного планирования. Ремонт квартиры, выпуск нового продукта, общественные работы редко укладываются в сроки и бюджет. Почему мы так оптимистичны в оценках затрат и сроков? Почему препятствия, кажущиеся маловероятными, застают нас врасплох? Из-за человеческой склонности недооценивать дизъюнктивные события. «Сложная система, будь то ядерный реактор или человеческое тело, не сможет функционировать, если хотя бы один из критически важных компонентов откажет, – пишут Тверски и Канеман (Tversky & Kahneman, 1974). – Даже если вероятность отказа каждого из компонентов мала, шансы, что произойдет катастрофа, могут быть значительны, если количество компонентов велико».
Недооценка дизъюнктивных событий иногда делает нас чересчур пессимистично настроенными. Представьте ситуацию: вечер понедельника, 22:00, ваш босс звонит вам и сообщает, что вы должны быть в чикагском офисе в 9:30 утра следующего дня. Вы узнаете в пяти авиакомпаниях, что у каждой есть один рейс в Чикаго, прилетающий до 9:00, но все места проданы. На вопрос о вероятности появления свободного места на рейсах, которое вы сможете выкупить, стоя утром на кассе, вы слышите оценки в 30, 25, 15, 20 и 25 %. Как следствие, вы не рассчитываете успеть в Чикаго вовремя.
В этом случае ошибка дизъюнкции заставляет вас ожидать худшего. На самом деле, если вероятности, сообщенные авиакомпаниями, точны и независимы друг от друга, у вас 73 %-ная вероятность попасть на какой-то из рейсов (если, конечно, вы будете у нужной стойки в нужное время).
Искажение 11. Ретроспективное искажение и «проклятие знания»
Представьте себя в следующих ситуациях:
● Вы страстный поклонник футбола и смотрите важную игру, в которой ваша команда проигрывает 35:31. Остается три секунды, мяч на трехъярдовой линии соперника, квотербек командует отдать пас в угол. Когда маневр оканчивается неудачей, вы кричите: «Я знал, что ничего не выйдет!»
● Вы едете по незнакомой местности, за рулем ваш партнер. На развилке автомобиль поворачивает направо. Проходит еще 15 минут, вы понимаете, что заблудились, и у вас вырывается: «Я так и знал, что надо было повернуть налево!»
● Одна из ваших менеджеров в прошлом году наняла сотрудника по собственному выбору – вы знали кандидатов и предоставили ей выбор. Новый сотрудник показал ужасные результаты, и вы отчитываете менеджера, говоря ей: «Было понятно, что не нужно его брать!»
● Работая директором по маркетингу в компании – производителе товаров широкого потребления, вы заказали исследование потребительских предпочтений. В конце презентации вице-президент компании говорит: «Не понимаю, на что мы потратили столько денег и времени. Я и так мог сказать, какой результат вы получите».
Знакомо? Каждый из описанных случаев демонстрирует «эффект послезнания» (Fischhoff, 1975), который часто возникает, когда люди оглядываются на свои или чужие суждения. Мы обычно не можем досконально вспомнить или воспроизвести ситуацию, какой она нам виделась до того, как мы узнали результат своего решения. Как бы сыграли вы? Правда ли вы знали, что нужно повернуть налево? Было ли очевидно, что не следовало нанимать этого сотрудника? Мог ли вице-президент предсказать результаты вашего исследования? Иногда интуиция и вправду срабатывает, но обычно мы склонны переоценивать, что нам было понятно заранее, обладая впоследствии более полной информацией.
Фишхофф исследовал разницу между послезнанием и предвидением в контексте суждений об исходах исторических событий. В одном эксперименте участников разделили на пять групп и попросили прочитать статью об англо-непальской войне 1814 г. Одной из групп не сообщили результат войны. Остальным четырем группами рассказали, что: 1) англичане одержали верх; 2) победили гуркхи; 3) противостояние зашло в тупик, но мир так и не был заключен; 4) было заключено мирное соглашение. Историческую правду – то, что победили англичане, – знала только одна группа. Каждого участника затем спросили, какова была бы его или ее субъективная оценка вероятности каждого исхода, если не принимать во внимание уже полученные сведения. Участники ответили, что они сочли бы наиболее вероятным именно тот исход, который, как им сообщили, имел место в действительности. Таким образом, знание исхода усиливает убежденность человека относительно того, до какой степени этот итог мог быть им спрогнозирован, не имей он этого знания.
Процессы, отвечающие за эффект якоря, могут влиять и на появление эффекта послезнания (Fiedler, 2000; Koriat, Fiedler, & Bjork, 2006) – знание итога служит своего рода якорем, с которым люди соотносят свои суждения относительно априорных вероятностей исходов события. Поскольку подтверждающая информация сравнительно более доступна, мы не делаем достаточную поправку на эффект якоря (Mussweiler & Strack, 1999). Как следствие, послезнание происходит от искажения воспоминаний о наших знаниях до события. Более того, те аспекты ситуации, которые соотносятся с известным итогом, становятся более значимыми и яркими в памяти (Slovic & Fischhoff, 1977). Эта тенденция заставляет объяснять свое предвидение «доступной тогда информацией». Наконец, относительная важность определенных сведений может быть скорректирована в сознании с учетом того, какое влияние они имели на результат.
В краткосрочной перспективе эффект послезнания может давать ряд преимуществ. Например, людям льстит мысль, что их суждения более точны, чем на самом деле. Вдобавок, с высоты этого заблуждения можно критиковать других за отсутствие умения прогнозировать последствия. Однако же этот эффект снижает умение учиться на ошибках и трезво оценивать свои решения. Вообще говоря, людей стоит судить по логике принятых решений, а не по результатам. Тот, кто принял обоснованное решение, пусть оно и вышло боком, должен быть поощрен, а не наказан. Почему? Потому что на результат влияет множество факторов, находящихся вне нашего контроля. Руководствуясь послезнанием для оценки логики принявшего решение, мы не даем такой качественной оценки, как могли бы.
С ретроспективным знанием близко связано так называемое «проклятие знания», согласно которому при оценке знаний других человеку невозможно абстрагироваться от знаний, которые есть только у него (Camerer, Loewenstein, & Weber, 1989). Доступное вам знание мешает справедливой оценке. Это «проклятие» объясняет, почему учителям сложно адаптировать свои уроки к уровню знаний учеников, а разработчики переоценивают умение людей работать со сложными устройствами. Едва ли не половина устройств, возвращаемых как бракованные, на самом деле полностью исправны: люди просто не разобрались, как ими пользоваться (den Ouden, 2006). Хох (Hoch, 1988) установил, что эксперты по маркетингу обычно хуже прогнозируют убеждения, вкусы и ценности потребителей, чем обычные люди, – маркетинговые специалисты неявно предполагают, что несведущие потребители знают о рекламируемом продукте не меньше, чем эксперты.
Случалось ли вам когда-либо давать абсолютно точные, по вашему мнению, инструкции, как добраться к вам домой, и обнаружить, что ваш гость заблудился? Кейсар (Keysar, 1994) утверждает, что, сообщая другому человеку понятные вам сведения, основанные на информации, которой он не располагает, вы тем не менее ожидаете, что он волшебным образом расшифрует посыл. В своем эксперименте Кейсар предлагал людям прочесть текст о некоем Дэвиде. Они узнавали, что Дэвид поужинал в каком-то определенном ресторане по рекомендации друга. Половине участников сообщили, что Дэвиду все понравилось, второй половине – что не понравилось. Всем сообщили, что Дэвид оставил другу следующую записку: «Насчет ресторана – прекрасно, просто прекрасно». Первая группа решила, что друг поймет записку в прямом смысле, вторая группа – что друг должен расшифровать сарказм, – хотя обеим группам было известно, что друг не знает, как прошел ужин Дэвида.
В организациях бывает много недопонимания из-за неумения понятно и открыто общаться. К разочарованию отчасти приводит наша убежденность, что люди правильно поймут наши двусмысленные сообщения. Общение по электронной почте, когда недоступны подсказки в виде интонаций и языка тела, только усугубляет проблему (Kruger, Epley, Parker, & Ng, 2005). Потенциальным решением проблемы «проклятия знания» может стать настрой на восприятие различий, а не сходств людей и вещей. Тодд, Ханко, Галинский и Мюсвайлер (Todd, Hanko, Galinsky, & Mussweiler, 2011) обнаружили, что, сосредотачиваясь на различиях, люди легче становятся на сторону других и меньше проецируют на них известную им информацию. Тодд с коллегами продемонстрировали, что настрой на наблюдение и учет различий можно усилить взаимодействием с людьми за пределами своего круга. В эксперименте коллектив был разделен на группы, и те участники, которые общались с представителями других групп, лучше справились с задачей провести члена группы с повязкой на глазах через лабиринт, чем те, которые ограничились общением внутри группы. Эти результаты подсказывают не только то, что внимание к различиям может спасти от «проклятия знания», но и что многообразие культур внутри компании само по себе помогает справиться с ним.
Если мы научимся превозмогать эвристику подтверждения и рассматривать ряд гипотез, альтернативных первоначально предложенной, мы сможем повысить качество принимаемых решений. Исследования показывают, что, получая набор разнообразных сведений, люди на удивление хорошо справляются с отбором самой полезной информации, а не той, которая подтверждает их подозрения (Nelson, McKenzie, Cottrell, & Sejnowski, 2010). Это многообещающее соображение означает, что, как только мы сможем преодолеть соблазн думать в канве подтверждения и заставим себя генерировать ряд альтернативных объяснений происходящих событий, мы сможем в разумной мере полагаться на интуицию в оценке этих объяснений. Исследования демонстрируют, что наша интуиция неплохо справляется с отбором информации, наиболее полезной для точного определения причин происходящего (Crupi, Tentori, & Lombardi, 2009).
Выводы и комментарии
Эвристики, или эмпирические правила, – это когнитивные инструменты, которые упрощают принятие решений. В этой главе мы описали 11 самых популярных искажений, возникающих, когда мы чрезмерно полагаемся на какую-либо эвристику. Эти предубеждения и связанные с ними эвристики перечислены в таблице 3.2. Следует помнить, что на ваше мышление могут в тот или иной момент влиять сразу несколько эвристик.
Положиться на эвристику можно, если потеря качества принимаемого решения с лихвой окупается сэкономленным временем. В самом деле такие лазейки нередко приводят к вполне адекватным решениям. Однако, как мы убедились в этой главе, полное принятие эвристик едва ли разумно. Во-первых, как видно из задач, существуют ситуации, в которых потеря в качестве решения намного серьезнее сэкономленного времени. Во-вторых, при разумном применении эвристик мы должны использовать их осознанно, до некоторой степени принося в жертву качество решения. В жизни такого не происходит: большинство из нас не подозревают о существовании эвристик и об их влиянии на наши суждения. Как следствие, мы неспособны различить ситуации, в которых эвристики идут нам на пользу и в которых они могут нам помешать.

Почему нам не удается применять эвристики выборочно? В большой степени потому, что архитектура нашего мозга делает их применение естественным и комфортным. Например, искажения, основанные на применении эвристики доступности, представляют собой естественное свойство человеческой памяти. Наш мозг лучше запоминает информацию, которая представляет интерес, эмоционально возбуждает или принята недавно. Мозг эволюционировал в течение тысяч лет, развивая стратегии, благодаря которым наши предки выжили и произвели потомство. Люди кажутся намного более осознанными, чем любые другие животные. Тем не менее мы почти не имеем понятия о том, как работает наш мозг, и не знаем о процессах, таких как извлечение из памяти и подтверждающая проверка гипотез, которые имеют столь важные и иногда неблагоприятные последствия.
Когда ставки высоки и предстоит принять важное решение, стоит приложить усилия и применить рассуждения, которые помогут избежать предвзятости. Ключ к улучшенному суждению лежит в умении отличать корректное применение эвристик от некорректного, понимать, в каких ситуациях мозг склонен положиться на эвристику – и как этого избежать. Эта глава закладывает основы такого умения.
Глава 4
Ограниченная осведомленность
Бернард Мейдофф обкрадывал своих инвесторов в течение трех десятилетий. В декабре 2008 г. его финансовая пирамида рухнула вместе с $64,8 млрд нарисованной «прибыли» и он сознался в совершенных преступлениях. Большую часть паев своего фонда Мейдофф продавал через фидерные фонды – то есть другие фонды, которые сулили своим клиентам доступ к фонду Мейдоффа или некую сверхприбыльную инвестиционную стратегию и передавали собранные средства зонтичному фонду Мейдоффа. Они имели неплохой доход, получая небольшой процент от инвестированных средств плюс 20 % с любой прибыли. Поскольку Мейдофф постоянно декларировал прибыль, фидерные фонды хорошо зарабатывали.
Дело не в Мейдоффе, дело в нашей поразительной способности не замечать того, что творится прямо у нас под носом. Добиться результатов, заявленных Мейдоффом, не смогла ни одна инвестиционная стратегия. Знали ли управляющие фидерными фондами, что Мейдофф строит финансовую пирамиду, или они не видели, что фонд Мейдоффа показывает ничем не объяснимый уровень прибыли и стабильности? Некоторые, возможно, что-то понимали (Markopolos & Casey, 2010) – но есть масса свидетельств тому, что многие управляющие фидерными фондами попросту не захотели внимательнее посмотреть на то, что происходило перед их глазами. Ничего не заметили также профессиональные инвесторы, представители государственного регулятора, инвестиционные банкиры – все они попросту игнорировали свидетельства обмана. Рене-Тьерри Магон де Ла Виллеуше, директор хедж-фонда Access International Advisors, вложил в фонд Мейдоффа собственные деньги, деньги своей семьи и обеспеченных клиентов. Его неоднократно предупреждали и сам он видел множество свидетельств тому, что результаты Мейдоффа нереальны, но он не стал ни в чем разбираться. Через две недели после того, как Мейдофф был арестован и правда всплыла на поверхность, де Ла Виллеуше покончил с собой в своем офисе – он перерезал запястья и принял снотворное.
Эта глава о том, как мы систематически и предсказуемо не замечаем критически важную информацию, хотя она легко нам доступна. Чтобы упростить сложные решения, мы используем эвристики, как мы обсуждали в главе 3, – и с той же целью ограничиваем поиск информации. С первых же минут жизни мы стремимся сделать сложные ситуации проще. Рождаясь, мы воспринимаем этот мир, говоря словами Уильяма Джеймса (William James, 1890), как «жужжащее и цветастое недоразумение» (с. 488). Мы ищем свой путь в этом мире – и когда учимся говорить, и когда осваиваем профессиональные обязанности – и постоянно решаем, на что обратить внимание, а что проигнорировать. У нас нет ресурсов, чтобы уделить внимание каждому потенциально важному факту при принятии решения, а если бы и были, все равно нужно было бы ранжировать единицы поступающей информации по важности и срочности.
Вот почему люди постоянно фильтруют поступающие сигналы. В основном это происходит подсознательно, автоматически и неэффективно – мы игнорируем или недооцениваем полезную информацию, уделяя повышенное внимание ерунде. В этой главе мы покажем, как наш мозг порой отфильтровывает ключевые единицы информации, и увидим, как это влияет на принимаемые нами решения и на наше восприятие действительности.
Прежде чем продолжить, уделите несколько минут решению задач из таблицы 4.1.
Таблица 4.1. Задачи к главе 4
Задача 1. Студенты программы MBA престижного университета читают следующую задачу. Каждый берет на себя одну из шести ролей: А, Б, В, Г, Д, Е.
Шесть человек случайным образом получают роли А, Б, В, Г, Д и Е. А выбирается случайным образом и получает $$60, которые он должен распределить между всеми участниками, при этом Б, В, Г, Д и Е должны получить равные суммы. Каждый из них указывают минимальную сумму, которую он готов принять от А. Если сумма, которую А предлагает каждому из остальных участников, не меньше максимальной величины, указанной ими, то деньги будут распределены так, как предложит А. Если кто-нибудь из участников запросит больше, чем предложит А, никто ничего не получит.
Решите, какое распределение должен предложить А, чтобы получить наибольшую выгоду (только целые числа, без дробей и десятичных знаков):

Задача 2. В недавнем исследовании студентам университета предложили следующую задачу.
Нужно выбрать из трех ящиков, А, Б или В. В одном лежит ценный приз, два другие пусты. Как только вы выбрали один ящик, автоматически откроется один из двух оставшихся – пустой. Вы можете изменить свой выбор на последний закрытый ящик или остаться при своем.
Студент, участвовавший в эксперименте, выбрал ящик Б. Компьютер открыл ящик В, оказавшийся пустым, и предложил студенту вместо ящика Б выбрать ящик А – закрытый.
Должен ли студент изменить выбор с ящика Б на А, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш приза?
Ответ: Да Нет
Задача 3. В этом упражнении вы представитель компании П (покупатель), которая рассматривает поглощение компании Ц (цель) через тендер. Вы планируете приобрести 100 % акций компании Ц, но сомневаетесь, какую цену предложить. Основная сложность заключается в том, что стоимость и само существование компании Ц зависят от исхода масштабного проекта разведки нефтяных месторождений. Если проект потерпит неудачу, компания с текущим руководством не будет стоить ничего. Если разведка будет успешной, стоимость компании может подняться до $100 за акцию. Все варианты стоимости в диапазоне $0–100 равновероятны.
Стоимость компании Ц, какова бы она ни была, гарантированно повысится под управлением компании П. После покупки компанией П она вырастет на 50 %. Если проект разведки потерпит неудачу, стоимость окажется нулевой, но если результаты проекта обеспечат стоимость $50 за акцию, то после поглощения акция будет стоить $75, а цена $100 за акцию превратится в $150.
Совет директоров компании П ждет от вас сумму, которую нужно предложить за акции компании Ц. Предложение нужно сделать сейчас, пока результаты бурения неизвестны. Компания Ц согласится на предложение компании П, если цена будет выгодная, и хотела бы избежать продажи какой-либо другой фирме. По-видимому, компания Ц отложит решение по вашему предложению до получения результатов проекта, а затем примет или отклонит предложение до того, как новости о проекте станут публичными. Таким образом, делая предложение, вы (компания П) не будете знать результаты проекта, но компании Ц эти результаты уже будут известны на момент принятия решения. Также можно рассчитывать, что компания Ц примет любое предложение компании П, которое будет выше ее текущей стоимости.
Вы обдумываете, какую цену предложить, – в диапазоне $0–150 за акцию. Какую цену за акцию компании Ц вы выставите на тендер?
Моя цена за акцию: $______.
Задача 4. Студенты программы MBA престижного университета читают следующую задачу. Каждый берет на себя одну из шести ролей: А, Б, В, Г, Д, Е.
Шесть человек случайным образом получают роли А, Б, В, Г, Д и Е. А выбирается случайным образом и получает $60, которые он должен распределить между всеми участниками, при этом Б, В, Г, Д и Е должны получить равные суммы. Каждый из них указывает минимальную сумму, которую он готов принять от А. Если сумма, которую А предлагает каждому из остальных участников, не меньше минимальной величины, указанной ими, то деньги будут распределены так, как предложит А. Если все участники запросят больше, чем предложит А, никто ничего не получит.
Предложите, какое распределение должен предложить А, чтобы получить наибольшую выгоду (только целые числа, без дробей и десятичных знаков):

Задача 5. В недавнем исследовании студентам университета предложили следующую задачу.
Нужно выбрать из трех ящиков – А, Б или В. В одном из этих ящиков лежит ценный приз, два другие пусты. Как только вы выбрали один из ящиков, компьютер может открыть один из двух оставшихся – пустой, чтобы предложить вам изменить свой выбор на последний закрытый ящик или остаться при своем выборе. Компьютер будет принимать решение, открывать ли ящик, и предлагать вам обмен, стараясь оставить вам минимальные шансы на выигрыш.
Студент, участвовавший в эксперименте, выбрал ящик Б. Компьютер открыл ящик В, оказавшийся пустым, и предложил студенту вместо ящика Б, изначально выбранного студентом, выбрать ящик А – закрытый.
Должен ли студент изменить выбор с ящика Б на А, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш приза?
Ответ: Да Нет
Задача 6. Не отрывая карандаша от бумаги, начертите четыре (и только четыре) прямые линии, соединив все девять точек на следующем рисунке.

В главе 1 мы ввели понятие ограниченной рациональности, которое означает, что наше мышление ограниченно и предвзято – систематическим и прогнозируемым образом. Ограничение зависит от того, каким образом люди обдумывают и принимают решения, используя известную им информацию. В этой главе мы обсудим ограниченную осведомленность (Bazerman & Chugh, 2005), которая мешает людям обратить внимание на полезную, доступную и относящуюся к делу информацию или сосредоточиться на ней. Наш мозг непрерывно принимает решения – чему уделить внимание, а что проигнорировать, – но наши фильтры восприятия допускают некоторые предсказуемые ошибки. Ограниченная осведомленность приводит к тому, что мы игнорируем доступную, готовую к восприятию важную информацию, уделяя внимание другой, столь же доступной, но нерелевантной. Частично это влияние эвристики доступности, которую мы рассмотрели в главах 1 и 2, но в целом ограниченная осведомленность выходит далеко за рамки эвристики доступности. Из-за ограниченной осведомленности от внимания большинства людей, принимающих решения, систематически ускользает полезная информация. Несоответствие между информацией, необходимой для принятия решения, и информацией в сознании приводит к ошибкам сосредоточенности.
Хорошо известная задача, демонстрирующая концепцию ограниченной осведомленности, представлена в таблице 4.1 под номером 6. Вы смогли ее решить? С ней не могут справиться умнейшие люди – даже те, кто видел ее раньше. Большинство старается соединить все девять точек, не выходя за границы воображаемого квадрата. Обычно это выглядит так:

Люди сами создают границу, которая сужает задачу и не дает найти решение. Но в задаче не было требования не выходить за пределы квадрата из девяти точек! Как только люди замечают пространство, лежащее вне девяти точек, решение находится довольно просто:

Как видите, это несложно. Тем не менее многие способные люди могут смотреть на подобную задачу часами – и не находить решение. Почему? Потому что нам мешают границы, созданные нашим мозгом. Задачи на креативность часто оставляют у людей чувство, что их обхитрили, но вся «хитрость» в том, что такие задачи перенаправляют наше внимание, заставляя психику увидеть границы, – и эти границы не дают нам найти решение. Если помочь нам развеять психологическую границу, решение покажется очевидным. Самые страшные барьеры для креативности – это наши предположения, то есть информация, которую мы добавляем к поставленной задаче. Мы строим предположения, чтобы уместить задачи в привычный нам мыслительный процесс. Задачи на творчество необязательно отражают проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, но склонность очерчивать ложные рамки – постоянный спутник суждения.
Феномен ограниченной осведомленности отлично описывается фразой: «И как я об этом не подумал?» – когда мы обнаруживаем что-то, на что не обратили внимания. Описывая интересный подход к созданию инновационных идей, Нейлбафф и Эйрс (Nalebuff & Ayres, 2003) предлагают задавать себе вопрос: «Почему бы и нет?» Всем известен пример нового дизайна бутылки для кетчупа, который позволяет ставить ее вверх дном, чтобы не ждать, пока кетчуп стечет со дна бутылки. Нейлбафф и Эйрс советуют разработчикам представить себе продукт, который бы они создали, если бы имели неограниченные ресурсы. Если вы знаете, чего бы вам хотелось в мире безграничных возможностей, вам легче оценить, как это будет работать в реальном мире.
Эта глава исследует распространенность феномена ограниченной осведомленности в различных проявлениях:
1. Невнимательное отношение к очевидной информации.
2. Игнорирование очевидных изменений.
3. Склонность сосредотачиваться на части задачи.
4. Ограниченная осведомленность в группах.
5. Ограниченная осведомленность при принятии стратегических решений и на аукционах.


