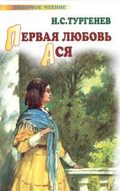Иван Тургенев
Собрание повестей и рассказов в одном томе
V
Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника – брат его покойной жены – некто Бычков, с младых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас». – «Да что чичас?» – с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить – другой у него заботы не было – и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» – приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца, – оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся… Мартын Петрович хотел оттолкнуть его – и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться – ладони его братца пришлись в упор о край биллиарда – и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский биллиард… В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!
VI
Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу, – промолвил Мартын Петрович. – Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно – и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! – загремел вдруг Мартын Петрович, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево. – Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой поневе колотила вальком скрученное белье.
– Аксинья! – гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля… – Мужу портки моешь?
Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.
– Портки, батюшка, – послышался ее слабый голос.
– То-то! Вот посмотри, – продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцой вдоль полусгнившего плетня, – это моя конопля; а та вон – крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты – тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то – учись.
Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей и с крохотным мезонином – но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись, – промолвил Харлов, – вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! – заметил Мартын Петрович. – Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя – и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он помог мне сойти с лошади.
– Анна! – воскликнул Харлов, – Натальи Николаевнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампиюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией – меньшую.)
– Дома нет; в поле за васильками пошла, – отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.
– Творог есть? – спросил Харлов.
– Есть.
– И сливки есть?
– Есть.
– Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда, – прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. – Вот где я пребываю, – промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери, – а вот и мой кабинет. Милости просим!
Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.
– Что ж, хорош кабинет? – спросил меня Харлов.
– Очень хорош.
– Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит, – продолжал Харлов, снова впадая в «тыкание». – Чудесный хомут! У жида выменял. Ты погляди-ка!
– Хомут хороший.
– Самый хозяйственный! Да ты понюхай… какова кожа!
Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью – и больше ничего.
– Ну, присядьте – вон там на стульчике, будьте гости, – промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора – да и полно! Он вдруг встрепенулся.
– Анна! – закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море, – что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?
– Все готово, батюшка, пожалуйте, – раздался голос его дочери.
Я внутренно подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью», – опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.
VII
Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница – и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой – сверху вниз (я сидел, она стояла) – посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» – словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись – это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, – я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, – но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение… Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы!..
Мартын Петрович опять встрепенулся.
– Анна! – крикнул он, – ты бы на фортепьянах побренчала… Молодые господа это любят.
Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.
– Слушаю, батюшка, – ответила Анна Мартыновна. – Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно.
– Так чему ж тебя обучали в пинсионе?
– Я все перезабыла… да и струны полопались.
Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный… вроде того, какой бывает у хищных птиц.
– Ну, – проговорил Мартын Петрович и задумался. – Ну, – начал он опять, – так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. – Эй, Володька! – крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моею лошадью, – проводи вот их на гумно… и вообще… покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!
Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.
Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, – но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу.
VIII
Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается, и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь мне послужишь!»
– Добрый конек у вас, – заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло, – вот бы мне такую лошадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили… напомнили.
– А она вам обещала?
– Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодушеству…
– Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.
– К Мартыну Петровичу! – повторил протяжно Слёткин. – Для него – что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка – всё едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.
– Неужели?
– Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!» – ну, вот точно топором отрубит. Проси, не проси – все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.
– Ах, господи боже мой, батюшка! – перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. – Посмотрите: что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два – убытку!
В голосе Слёткина слышались чуть не рыданья. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.
Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; все в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; все в ней было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь», – так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее… Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.
Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидал ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.
IX
Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и – как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя – «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другoe-с, а зубьё считать у мужичья – это я до тонкости понимаю, – говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами, – потому – привык, – пояснял он, – в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным поктом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.
– Только сладишь ли ты с ней, отец мой? – спросила она его однажды.
Житков самодовольно улыбнулся.
– Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.
– То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена, – заметила матушка с неудовольствием.
– Помилуйте-с! Наталья Николаевна! – снова воскликнул Житков. – Это мы всё очень понять можем. Одно слово: барышня, особа нежная!
– Ну! – решила наконец матушка, – Евлампия себя в обиду не даст.
X
Однажды – дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру – человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» – воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу… которое… такого рода, что по причине…
Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.
Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.
На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.
– Сказывай, батюшка, сказывай, – воскликнула матушка, как только увидела его, – что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! – подумала я, – уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?
– Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем, – отвечал Мартын Петрович, – не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.
– О чем?
– Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно…
– Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?
Харлов нахмурился.
– Нет, не меланхолия – она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?
Матушка всполохнулась.
– О чем?
– О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?
– Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился – и тебе конец будет.
– Будет! ох, будет! – подхватил Харлов и потупился. – Случилось со мною сонное мечтание… – протянул он наконец.
– Что ты говоришь? – перебила его матушка.
– Сонное мечтание, – повторил он. – Я ведь сновидец!
– Ты?
– Я! А вы не знали? – Харлов вздохнул. – Ну, вот… Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.
Харлов умолк.
– Ну? – промолвила матушка.
– И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся – ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставцам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.
– Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.
– Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение… К смерти моей, значит.
– Ну вот еще! – начала было матушка.
– Предостережение! Готовься, мол, человече! И потому, я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая, – закричал вдруг Харлов, – чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет. – Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: – Нимало не медля.
– Что ж? Это дело хорошее, – заметила матушка, – только, я думаю, ты напрасно спешишь.
– И так как я желаю в сем деле, – продолжал, еще более возвысив голос, Харлов, – должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича, – вас я, сударыня, обеспокоивать не осмеливаюсь, – прошу оного сыночка, Дмитрия Семеновича, родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю – при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать; который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в двенадцатом часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тож, при участии предержащих властей и чинов, кои уже суть приглашены.
Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь… У него словно воздуха в груди недоставало: его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.
– И ты уже составил раздельный акт? – спросила матушка. – Когда это ты успел?
– Успел… ох! Не пимши, не емши…
– Сам писал?
– Володька… ох! помогал.
– И прошение подал?
– Подал, и палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда… ох!.. к прибытию назначено.
Матушка усмехнулась.
– Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем, как следует, распорядился, и как скоро! Знать, денег не жалел?
– Не жалел, сударыня!
– То-то! А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет; я и Сувенира с ним отпущу, и Квицинскому скажу… А Гаврилу Федулыча ты не приглашал?
– Гаврила Федулыч… господин Житков… от меня такожде… извещен. Ему, как жениху, следует!
Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой; быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиюшки.
Он поднялся со стула и шаркнул ногою.
– За согласие благодарен!
– Куда же ты? – спросила матушка. – Посиди; я велю закуску подать.
– Много довольны, – отвечал Харлов. – Но не могу… Ох! нужно домой.
Он попятился и полез было, по своему обыкновению, боком в дверь.
– Постой, постой, – продолжала матушка, – неужто ты все свое именье без остатку дочерям предоставляешь?
– Вестимо, без остатку.
– Ну, а ты сам… где будешь жить?
Харлов даже руками замахал.
– Как где? У себя в доме, как жил доселючи… так и впредь. Какая же может быть перемена?
– И ты в дочерях своих и в зяте так уверен?
– Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда… Какая его власть? А они меня, дочери то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать… Помилуйте! первая их обязанность! Я ж им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то – за плечами.
– В смерти господь бог волен, – заметила матушка, – а обязанность это их, точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит…
– Наталья Николаевна! – перебил Харлов, – что вы это?.. Да чтоб они… Мои дочери… Да чтоб я… Из повиновенья-то выйти? Да им и во сне… Противиться? Кому? Родителю?.. Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили – и вдруг… господи!
Харлов раскашлялся, захрипел.
– Ну, хорошо, хорошо, – поспешила успокоить его матушка, – только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.
– Э, матушка! – не без досады возразил Харлов, – зарядили вы свою меланхолию! Тут, быть может, свыше сила действует, а вы: меланхолия! Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще «жимши», при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость…
Голос Харлова опять перервался.
– Ну полно же, полно, отец мой, – перебила его матушка, – а то и впрямь вороной жеребенок появится.
– Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем! – простонал Харлов. – Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь!
Мартын Петрович вышел; матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою.
– Не к добру это, – прошептала она, – не к добру. Ты заметил, – обратилась она ко мне, – он говорит, а сам будто от солнца все щурится; знай: это примета дурная. У такого человека тяжело на́ сердце бывает и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с Сувениром.
XI
В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным «лейб-кучером», седобородым и тучным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела Сувениру и мне одеться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего «протеже». Квицинский – тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу Сувенир трещал как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал наконец. «И охота вам, – заговорил он со своим польским отчетливым акцентом, – такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидеть смирно, без этих «никому не нужных» (любимое его слово) пустяков?» – «Ну, чичас», – пробормотал Сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй – как уже показалась харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный форейтор, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись – послышалось легкое тпрукание, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах – и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню – меня особенно поразили березки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в Троицын день. «Торжество из торжеств!» – пропел в нос Сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был плисовый галстух с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак; а у вынырнувшего из-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося – именно возвышавшегося – посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облекся в серый, должно быть ополченский, двенадцатого года, казакин с черным стоячим воротником, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока; левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел; и какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти! Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив: «Прошу!» – повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному: Анна в зелено-лиловом, двуличневом платье с желтым шелковым поясом; Евлампия – в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире, с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с бо́льшим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды, на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги – все свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинчик, с пухлыми, короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными, подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время; но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом: видно было, что вся эта «процедура» его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре Первом, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз: от очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на «никому не нужную» поездку, на напрасную трату времени… «Барыня! Барские русские фантазии! – казалось, шептал он про себя… – Уж эти мне русские!»
XII
Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крякнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так:
– Милостивые государи! Я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают… Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается… Не так ли, батюшка? – обратился он к священнику.
Батюшка встрепенулся.
– Тако, тако, – прошамшил он, потрясая бородкой.
– И потому, – продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос, – не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем… – Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он два дня тому назад произнес у матушки. – В силу сего моего решения, – закричал он еще громче, – сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною, и предержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня!