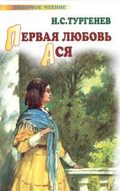Иван Тургенев
Собрание повестей и рассказов в одном томе
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
нельзя любить русской речи. Словом, Софья Кирилловна принадлежала к числу тех женщин, которых любезники величают ловкими дамами, мужья – боевыми особами, а старые холостяки – разбитными бабенками.
Сперва разговор зашел о том, что очень скучно жить в деревне.
– Здесь просто нет живой души, просто не с кем словом перекинуться, – говорила Софья Кирилловна, особенно отчетливо произнося букву с. – Я не могу понять, что за люди здесь живут. А те, – прибавила она с ужимкой, – с которыми было бы приятно познакомиться, – те не ездят, оставляют нас, бедных, в нашем невеселом одиночестве.
Борис Андреич слегка наклонился вперед и пробормотал какое-то неловкое извинение, а Петр Васильич только глянул на него, как бы желая сказать: «Ну, что я вам говорил? Кажется, эта за словом в карман не полезет».
– Вы курите? – спросила Софья Кирилловна.
– Курю… но…
– Сделайте одолжение… я сама курю.
И, сказав эти слова, вдова взяла со столика довольно большую серебряную сигарочницу, достала из нее папироску и предложила гостям. Оба гостя взяли по папироске. Софья Кирилловна позвонила и велела вошедшему мальчику, с красным жилетом во всю грудь, подать огня. Мальчик принес восковую свечу на хрустальном подносе. Папироски задымились.
– Ведь вот, например, вы не поверите, – продолжала вдова, слегка закинув голову и пуская дым тонкой струею кверху, – здесь есть люди, которые находят, что дамам не следует курить. А уж верхом ездить – сохрани боже! просто каменьями побьют. Да, – прибавила она после небольшого молчания, – все, что выходит из-под общего уровня, все, что нарушает законы какого-то выдуманного приличия, подвергается здесь строжайшему осуждению.
– Особенно барыни на этот счет сердиты, – заметил Петр Васильич.
– Да, – возразила вдова, – беда попасть к ним на зубок! Впрочем, я с ними не знаюсь вовсе; сплетни их не проникают в мое пустынное убежище.
– И вам не скучно? – спросил Борис Андреич.
– Скучно? Нет. Я читаю… А когда книги мне надоедают, мечтаю, гадаю о будущем, задаю вопросы своей судьбе.
– Будто вы гадаете? – спросил Петр Васильич.
Вдова снисходительно улыбнулась.
– Почему же и не гадать? Я уже довольно стара для этого.
– О, что вы-с! – возразил Петр Васильич.
Софья Кирилловна, прищурившись, посмотрела на него.
– Впрочем, бросимте этот разговор, – промолвила она и с живостью обратилась к Борису Андреичу: – Послушайте, мсье Вязовнин, я уверена, что вы интересуетесь русской литературой?
– Да… конечно, я…
Вязовнин любил читать, но, собственно, по-русски читал неохотно и мало. Особенно новейшая словесность была ему незнакома: он остановился на Пушкине.
– Скажите, пожалуйста, отчего Марлинский в последнее время впал в такую немилость? Это, по-моему, в высшей степени несправедливо. Вы какого о нем мнения?
– Марлинский – писатель с достоинствами, конечно, – возразил Борис Андреич.
– Он поэт; он уносит воображение в мир… в какой-то очаровательный, чудесный мир; а в нынешнее время все стали описывать ежедневное. Ну, помилуйте, что хорошего в этой ежедневной жизни, здесь, на земле…
И Софья Кирилловна провела рукой вокруг себя.
Борис Андреич значительно посмотрел на Софью Кирилловну.
– Я не согласен с вами. Я нахожу много хорошего и здесь, – сказал он, с особенным ударением на последнем слове.
Софья Кирилловна внезапно засмеялась каким-то резким смехом, а Петр Васильич так же внезапно поднял голову, подумал и опять принялся курить. Разговор продолжался в том же роде, как начался, до самого обеда, беспрестанно переходя от одного предмета к другому, чего не случается, когда разговор становится действительно занимательным. Между прочим, речь зашла и о браке, о его выгодах и невыгодах, и о положении женщин вообще. Софья Кирилловна сильно восставала против брака, пришла наконец в волнение и, почувствовав жар, выражалась очень красноречиво, хотя собеседники ее ей почти не противоречили: она недаром любила Марлинского. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова: артистический, художественность, обусловливать – так и сыпались из ее уст.
– Что может быть для женщины дороже свободы – свободы мыслей, чувств, поступков! – воскликнула она, наконец.
– Да позвольте, – перебил ее Петр Васильич, лицо которого понемногу начинало принимать выражение недовольное, – на что женщине свобода? что она с нею сделает?
– Как что? А мужчине она, по-вашему, нужна? То-то и есть: вы, господа…
– Да и мужчине она не нужна, – перебил ее опять Петр Васильич.
– Как не нужна?
– Да так же, не нужна. На что она, эта хваленая свобода, человеку? Человек свободный – это дело известное – либо скучает, либо дурачится.
– Стало быть, – заметила Софья Кирилловна с иронической усмешкой, – вы скучаете, потому что, зная вас за человека благоразумного, я не могу предполагать, чтобы вы дурачились, как вы говорите.
– Случается и то, и другое, – спокойно промолвил Петр Васильич.
– Вот это мило! Впрочем, я должна быть благодарна вашей скуке за то, что имею удовольствие видеть вас сегодня у себя…
И, довольная ловким оборотом своей фразы, хозяйка слегка закинулась назад и произнесла вполголоса:
– Ваш приятель, я вижу, любит парадоксы, monsieur Вязовнин.
– Я этого не заметил, – возразил Борис Андреич.
– Что я люблю? – спросил Петр Андреич.
– Парадоксы.
Петр Васильич посмотрел в глаза Софье Кирилловне и ничего не ответил ей, а только подумал про себя: «Я так знаю, что ты любишь…»
Мальчик с красным жилетом вошел и доложил, что обед готов.
– Милости просим, – сказала хозяйка, поднимаясь с дивана.
И все перешли в столовую.
Обед не понравился гостям. Петр Васильич встал из-за стола голодный, хотя блюд было много; а Борис Андреич, как гастроном, остался недоволен, хоть кушанья приносились под жестяными колпаками и тарелки подавались гретые. Вина тоже оказались плохими, несмотря на великолепные, золотом и серебром украшенные ярлыки на бутылках. Софья Кирилловна не переставала разговаривать – только по временам бросала выразительные взоры на подававших людей, и винцо она попивала порядком, причем замечала, что в Англии все дамы употребляют вино, а здесь и это считается неприличным. После обеда хозяйка пригласила Бориса Андреича и Петра Васильича обратно в гостиную и спросила у них, что они предпочитают – кофе или желтый чай. Борис Андреич пожелал чаю и, выпив свою чашку, внутренно сожалел о том, что не попросил кофе; а Петр Васильич пожелал кофе и, выпив свою чашку, спросил чаю, отведал и поставил чашку обратно на поднос. Хозяйка уселась, закурила папироску и, по-видимому, не прочь была затеять самую оживленную беседу: глаза у ней разгорелись и смуглые щеки покраснели. Но гости отвечали вяло на ее бойкие речи, занимались больше куреньем и, судя по взорам их, внезапно устремленным в углы комнаты, думали об отъезде. Впрочем, Борис Андреич, вероятно, согласился бы остаться до вечера: он уже вступил было в прение с Софьей Кирилловной по поводу кокетливого ее вопроса: не удивляется ли он тому, что она живет одна, без компаньонки? Но Петр Васильич явно торопился домой. Он встал, вышел в переднюю и приказал заложить лошадей. Когда же, наконец, оба приятеля стали прощаться, а хозяйка начала их удерживать и любезно выговаривать им, что они так мало посидели у ней, то Борис Андреич нерешительным наклонением своего стана и осклабленным выражением лица показывал, по крайней мере, что упреки ее на него действуют; но Петр Васильич, напротив, то и дело бормотал: «Никак нельзя-с, пора ехать-с, дела-с, теперь месячно», – и упорно пятился назад, к двери. Софья Кирилловна взяла с них, однако, слово, что они на днях опять посетят ее, и сама протянула им руку для английского Shakehands[68]. Борис Андреич один воспользовался ее предложением и довольно-таки крепко пожал ее пальцы. Она прищурилась и улыбнулась. В это мгновение Петр Васильич уже надевал в передней шинель в рукава.
Коляска не успела еще выехать из деревни, как он первый нарушил молчание, воскликнув:
– Не то, не то, нет, не годится, не то!
– Что вы хотите сказать? – спросил его Борис Андреич.
– Не то, не то, – повторял Петр Васильич, глядя в сторону и слегка отвернувшись.
– Если вы это говорите про Софью Кирилловну, то я с вами не согласен: она очень милая дама, – с претензиями, но милая.
– Еще бы! Конечно, если б только для того, чтобы, например… Но ведь я с какою целью желал вас с нею познакомить?
Борис Андреич не отвечал.
– Уж я вам говорю, не то. Сам вижу. Это мне нравится – говорить о себе: «Я эпикурейка». Да позвольте: вот у меня на правой стороне двух зубов недостает – разве я говорю об этом? И без моих слов все увидят. И притом, какая она хозяйка? Чуть с голоду не уморила. Нет, по-моему, будь развязная, будь начитанная, коли уж так тебя повернуло, будь с бонтоном, но будь хозяйка прежде всего. Нет, не то, не то, не того вам надо. Этими красными жилетами да колпаками на блюдах вас не удивишь.
– Да разве вам нужно, чтоб меня удивили? – спросил Борис Андреич.
– Уж я знаю, что вам нужно, – теперь я знаю.
– Уверяю вас, что я благодарен вам за знакомство с Софьей Кирилловной.
– Тем лучше; но она, я повторяю, не то.
Приятели поздно вернулись домой. Уходя от Бориса Андреича, Петр Васильич взял его за руку и промолвил:
– А я все-таки от вас не отстану, слова я вашего вам не возвращаю.
– Помилуйте, я к вашим услугам, – возразил Борис Андреич.
– Ну и прекрасно!
И Петр Васильич удалился.
Целая неделя прошла опять обыкновенным порядком, с тою, однако, особенностью, что Петр Васильич отлучался куда-то на целый день. Наконец, в одно утро явился он, опять одетый по-праздничному, и опять предложил Борису Андреичу съездить с ним в гости. Борис Андреич, который, как видно, ожидал зтого приглашения с некоторым нетерпением, беспрекословно повиновался.
– Куда вы теперь меня везете? – спросил он Петра Васильича, сидя с ним рядом уже в санях.
Со времени их поездки к Софье Кирилловне зима успела стать.
– Я везу вас теперь, Борис Андреич, – отвечал Петр Васильич с расстановкой, – в один очень почтенный дом – к Тиходуевым. Это препочтенное семейство. Старик служил полковником и прекрасный человек. Жена его тоже прекрасная дама. У них две дочери, чрезвычайно любезные особы, воспитаны отлично, и состояние есть. Не знаю, какая вам больше понравится: одна этак будет поживее, другая – потише; другая-то, признаться, уже слишком робка. Но обе могут за себя постоять. Вот вы увидите.
– Хорошо, увижу, – возразил Борис Андреич и подумал про себя: «Словно семейство Лариных из «Онегина».
И, по милости ли этого воспоминания, по другой ли какой причине, черты его лица приняли на некоторое время вид разочарованный и скучающий.
– Как зовут отца? – спросил он небрежно.
– Его зовут Калимон Иваныч, – ответил Петр Васильич.
– Калимон! Что за имя!.. А мать?
– А мать зовут Пелагеей Ивановной.
– А дочерей как зовут?
– Одну тоже Пелагеей, а другую Эмеренцией.
– Эмеренцией? Я такого имени отроду не слыхал… и еще Калимоновной.
– Да, имя точно немножко странное… Но какая зато девица! Просто, можно сказать, вся составлена из какого-то добродетельного огня!
– Петр Васильич, помилуйте! Как вы поэтически выражаетесь! А какая из них Эмеренция – та, что потише?
– Нет, другая… Да вот вы сами увидите.
– Эмеренция Калимоновна! – воскликнул еще раз Вязовнин.
– Мать зовет ее Emérance, – вполголоса заметил Петр Васильич.
– А мужа своего – Calimon?
– Этого не слыхал. Да вот погодите.
– Подожду.
До Тиходуевых было тоже верст около двадцати пяти, как до Софьи Кирилловны; но старинная усадьба их нисколько не походила на щегольской домик развязной вдовы. Это было неуклюжее строение, просторное и пространное, какая-то масса темного тесу, с темными стеклами в окнах. По бокам стояли в два ряда высокие березы; из-за крыши виднелись бурые вершины огромных лип – весь дом словно оброс кругом; летом растительность эта, вероятно, оживляла вид усадьбы, зимой она придавала ей еще больше уныния. Впечатление, производимое внутренностью дома, тоже не могло назваться веселым: все в нем было мрачно и тускло, все казалось старее, чем оно было в самом деле. Приятели велели доложить о себе; их провели в гостиную. Хозяева встали им навстречу, но долгое время могли приветствовать их только знаками и телодвижениями, на которые гости, с своей стороны, отвечали одними улыбками и поклонами: такой ужасный лай подняли четыре белые шавки, соскочившие при появлении чужих лиц с шитых подушек, на которых лежали. Кое-как, хлопаньем по воздуху носовыми платками и другими средствами, успокоили разъярившихся собачонок, а одну из них, самую старую и самую злую, вошедшая девка принуждена была вытащить из-под скамейки и унести в спальню, причем потерпела укушение в правую руку.
Петр Васильич воспользовался восстановившеюся тишиной и представил Бориса Андреича хозяевам. Хозяева объявили в один голос, что очень рады новому знакомству; потом Калимон Иваныч представил Борису Андреичу своих дочерей, называя их Поленькой и Эменькой. В гостиной находились еще две женские личности, уже немолодые: одна – в чепце, другая – в темном платочке; но Калимон Иваныч не почел нужным познакомить с ними Бориса Андреича.
Калимон Иваныч был человек лет пятидесяти пяти, высокий, плотный, седой; лицо его не выражало ничего особенного: черты тяжелые, простые, с отпечатком равнодушия, доброты и лени. Жена его, маленькая, худая, с изношенным личиком, с накладкой красноватых волос под высоким чепцом, казалась в вечной тревоге; в ней замечались следы давно прошедшего жеманства. Из дочерей одна, Пелагея, черноволосая и смуглая, глядела исподлобья и дичилась; другая, напротив, Эмеренция, белокурая, полная, с круглыми красными щеками, с маленьким, съеженным ротиком, вздернутым носиком и сладкими глазками, так и выдавалась вперед; видно было, что обязанность занимать гостей лежала на ее ответственности и нисколько ее не тяготила. На обеих сестрах были белые платья, со вздымавшимися от малейшего движения голубыми лентами. Голубое шло к Эмеренции, но не шло к Поленьке… да вряд что-нибудь могло идти к ней, хотя ее нельзя было назвать некрасивой. Гости уселись; хозяева предложили им обычные вопросы, произносимые с тем приторным и натянутым выражением лица, которое является у самых порядочных людей в первые мгновения разговора с новым знакомым; гости возражали таким же образом. Все это производило довольно тягостное впечатление. Калимон Иваныч, не будучи очень находчив от природы, спросил Бориса Андреича, «давно ли он поселился в наших краях», а Борис Андреич только что успел ответить Пелагее Ивановне на этот же самый вопрос. Пелагея Ивановна очень нежным голосом – голосом, который всегда употребляется при гостях в день их первого посещения, – упрекнула своего мужа в рассеянности; Калимон Иваныч немного смутился и громко высморкался в клетчатый носовой платок. Звук этот взволновал одну шавку, и она залаяла; но Эмеренция тотчас нашлась и, приласкав ее, успокоила. Та же самая девица сумела оказать другую услугу своим несколько уже потерявшимся родителям: она оживила разговор, скромно, но с твердостью подсев к Борису Андреичу и предложив ему в свою очередь с самым умильным видом вопросы хотя незначительные, но приятные и способные вызвать веселые ответы. Дело скоро пошло на лад; завязалось общее прение, в котором одна Поленька не принимала участия. Она с упорством глядела на пол, между тем как Эмеренция даже смеялась, грациозно приподняв одну руку, и в то же время так держалась, как будто хотела сказать: «Смотрите, смотрите, как я благовоспитанна и любезна и сколько во мне милой игривости и расположения ко всем людям!» Казалось, она и пришепетывала оттого, что уже очень была добра. Она смеялась, придавая смеху своему сладостную растянутость, хотя Борис Андреич сначала не произносил ничего особенного; она смеялась потом еще более, когда Борис Андреич, поощренный успехом слов своих, начал действительно острить и злословить… Петр Васильич тоже смеялся. Вязовнин заметил между прочим, что он страстно любит музыку.
– А я как люблю музыку, так это просто ужас! – воскликнула Эмеренция.
– Вы не только ее любите – вы сами превосходная музыкантша, – заметил Петр Васильич.
– Неужели? – спросил Борис Андреич.
– Да, – продолжал Петр Васильич, – и Эмеренция Калимоновна и Пелагея Калимоновна, обе поют и на фортепьяно играют отлично, особенно Эмеренция Калимоновна.
Услышав свое имя, Поленька вспыхнула и чуть не вскочила с места, а Эмеренция скромно потупила глаза.
– Ах, mesdemoiselles, – заговорил Борис Андреич, – неужели вы не будете так добры… не сделаете мне удовольствия…
– Я, право… не знаю… – прошептала Эмеренция и, бросив украдкой взгляд на Петра Васильича, прибавила с упреком: – Ах, какие вы!
Но Петр Васильич, как человек положительный, тотчас обратился к самой хозяйке.
– Пелагея Ивановна, – сказал он, – прикажите вашим дочерям сыграть нам что-нибудь или спеть.
– Я не знаю, в голосе ли они сегодня, – возразила Пелагея Ивановна, – но можно попробовать.
– Да, попробуйте, попробуйте, – промолвил отец.
– Ах, maman, да как можно…
– Эмеранс, кан же ву ди…[69] – проговорила вполголоса, но очень серьезно Пелагея Ивановна.
У ней была привычка, общая многим матерям, отдавать приказы или делать наставления своим детям при других людях на французском диалекте, хотя бы те люди и понимали по-французски. И это было тем более странно, что сама она довольно плохо знала этот язык и произносила дурно.
Эмеренция встала.
– Что же мы будем петь, maman? – спросила она с покорностью.
– Ваш дуэт: он премиленький. У моих дочерей, – продолжала Пелагея Ивановна, обращаясь к Борису Андреичу, – разные голоса: у Эмеренции дишкант…
– Сопрано, вы хотите сказать?
– Да, да, сомпрано. А у Поленьки контроальт.
– А! контральт! это очень приятно.
– Я не могу сегодня петь, – промолвила Поленька с усилием, – я охрипла.
Голос ее действительно походил больше на бас, чем на контральт.
– А! Ну в таком случае, Эмеранс, спой нам свою арию, ты знаешь, итальянскую, фаворитную; а Поленька тебе будет аккомпанировать.
– Ту арию, где ты горошком, горошком, – подтвердил отец.
– Бравурную, – объяснила мать.
Обе девицы подошли к фортепьяно. Поленька подняла крышку, положила тетрадку рукописных нот на пюпитр и села, а Эмеренция стала подле нее, едва заметно, но мило рисуясь под устремленными взорами Бориса Андреича и Петра Васильича и по временам поднося платок к губам. Наконец она запела, как большей частью поют барышни, – визгливо и не без завываний. Слова она произносила невнятно, но по иным носовым звукам можно было догадаться, что она поет по-итальянски. Под конец она действительно рассыпалась горошком, к большому удовольствию Калимона Иваныча – он слегка приподнялся в креслах и воскликнул: «Хорошенько его!» – но последнюю трель она пустила ранее, чем бы следовало, так что сестра ее несколько тактов сыграла уже одна. Это, однако же, не помещало Борису Андреичу изъявить свое удовольствие и сказать Эмеренции комплимент; а Петр Васильич, повторив раза два: «Очень, очень хорошо», прибавил: «Нельзя ли теперь нам чего-нибудь русского, «Соловья», например, или «Сарафанчика», или какую-нибудь цыганскую песенку? А то эти иностранные штуки, правду сказать, не для нашего брата писаны».
– И я с вами согласен, – промолвил Калимон Иваныч.
– Шанте…[70] ле «Сарафан», – заметила вполголоса и с прежней суровостью мать.
– Нет, не «Сарафан», – подхватил Калимон Иваныч, – а «Мы две цыганки» или «Скинь-ка шапку да пониже поклонись…» – знаешь?
– Папа, уж вы всегда такой! – возразила Эмеренция и спела «Скинь-ка шапку», и довольно порядочно спела. Калимон Иваныч подтягивал ей и подтопывал, а Петр Васильич пришел в совершенный восторг.
– Вот это другое дело! Вот это по-нашенски! – твердил он. – Утешили, Эмеренция Калимоновна!.. Теперь я вижу, что вы имели право назвать себя охотницей и мастерицей! Согласен: охотница и мастерица!
– Ах, какой вы нескромный! – возразила Эмеренция и хотела возвратиться на свое место.
– Апрезан[71] ле «Сарафан», – проговорила мать.
Эмеренция спела «Сарафан» не с таким успехом, как «Скинь-ка шапку», но все-таки с успехом.
– Теперь бы следовало вам сыграть вашу сонату в четыре руки, – заметила Пелагея Ивановна, – но уж это лучше до другого разу, а то, я боюсь, мы надоедим господину Вязовнину.
– Помилуйте… – начал было Борис Андреич. Но Поленька тотчас захлопнула фортепьяно, а Эмеренция объявила, что она устала. Борис Андреич почел за нужное повторить свой комплимент.
– Ах, monsieur Вязовнин, – отвечала она, – вы, я думаю, слышали не таких певиц; я воображаю, после них что значит мое пенье… Конечно, Бомериус, когда он проезжал здесь, говорил мне… Ведь вы, я думаю, слыхали про Бомериуса?
– Нет, какой это Бомериус?
– Ах, помилуйте! Отличный скрипач, в Парижской консерватории воспитывался, удивительный музыкант… Он говорил мне, что «mademoiselle, если бы с вашим голосом да поучиться у хорошего учителя, то это было бы просто удивительно». Просто все пальчики мне перецеловал… Но где здесь учиться?
И Эмеренция вздохнула.
– Да, конечно… – вежливо возразил Борис Андреич, – но с вашим талантом… – Он замялся и еще вежливее глянул в сторону.
– Эмеранс, деманде́, пуркуа ке-ле-дине[72], – проговорила Пелагея Ивановна.
– Oui, maman[73], – возразила Эмеренция и вышла, приятно подпрыгнув перед дверью.
Она бы не подпрыгнула, если б не было гостей. А Борис Андреич направился к Поленьке.
«Коли это семейство Лариных, – подумал он, – так уж не Татьяна ли она?»
И он подошел к Поленьке, которая не без ужаса следила за его приближением.
– Вы прелестно аккомпанировали вашей сестрице, – начал он, – прелестно!
Поленька ничего не отвечала, только покраснела до самых ушей.
– Мне очень жаль, что мне не удалось услышать ваш дуэт… Из какой он оперы?
Глаза Поленьки беспокойно забегали.
Вязовнин подождал ее ответа; ответа не было.
– Какую вы больше музыку любите? – спросил он, погодя немного, – итальянскую или немецкую?
Поленька потупилась.
– Пелажи, репонде́ донк[74], – раздался взволнованный шепот Пелагеи Ивановны.
– Всякую, – торопливо произнесла Поленька.
– Однако как же всякую? – возразил Борис Андреич. – Это трудно предположить. Например, Бетховен – гений первой величины, и между тем он оценен не всеми.
– Нет-с, – отвечала Поленька.
– Искусство бесконечно разнообразно, – продолжал неугомонный Борис Андреич.
– Да-с, – отвечала Поленька.
Разговор между ними длился недолго.
«Нет, – думал Борис Андреич, отходя от нее, – какая это Татьяна! это просто олицетворенный трепет…»
А бедная Поленька в тот день, ложась спать, со слезами жаловалась своей горничной, как к ней сегодня гость пристал с музыкой, и как она не знала, что отвечать ему, и как она несчастна бывает, когда приезжают гости: только маменька потом бранится – вот и все удовольствие…
За обедом Борис Андреич сидел между Калимоном Иванычем и Эмеренцией. Обед был русский, без затей, но сытный, и Петру Васильевичу гораздо более пришелся по вкусу, чем ухищренные яства вдовы. Подле него сидела Поленька и, победив, наконец, свою робость, по крайней мере отвечала на его вопросы. Зато Эмеренция так усердно занимала своего соседа, что ему, наконец, пришлось невмочь. У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту кусок слева – словно она заигрывала с ним; и эта привычка очень не нравилась Борису Андреичу. Не нравилось ему также и то, что она беспрестанно говорила о самой себе, с чувством доверяя ему самые мелкие подробности своей жизни; но, как человек вежливый, он нисколько не обнаруживал ощущений своих, так что наблюдавший за ним через стол Петр Васильич решительно не мог отдать себе отчета, какого рода впечатление производила на него Эмеренция.
После обеда Калимон Иваныч внезапно погрузился в задумчивость, или, говоря прямее, слегка осовел; он привык спать в это время и, хотя заметив, что гости собираются уехать, несколько раз промолвил: «Да, зачем же, господа, почему? в карточки бы?..» – однако в душе был доволен, когда увидал наконец, что они уже шапки в руки взяли. Пелагея Ивановна, напротив, тут-то и оживилась и с особенной настойчивостью удерживала гостей. Эмеренция усердно помогала ей и всячески старалась уговаривать их остаться; даже Поленька сказала им: Mais, messieurs…[75] Петр Васильич не отвечал ни да, ни нет и все поглядывал на своего товарища; зато Борис Андреич вежливо, но твердо настоял на необходимости возвратиться домой. Словом, дело вышло наоборот тому, как оно происходило при прощании с Софьей Кирилловной. Дав слово вскорости повторить свое посещение, гости наконец удалились; приветливые взоры Эмеренции сопровождали их до самой столовой, а Калимон Иваныч вышел даже в переднюю и, посмотрев, как проворный слуга Бориса Андреича закутал господ в шубы, навязал им шарфы и натянул на их ноги теплые сапоги, вернулся в свой кабинет и немедленно заснул, между тем как Поленька, пристыженная своею матерью, ушла к себе наверх, а две безмолвные женские личности, одна в чепце, другая в темном платочке, поздравляли Эмеренцию с новой победой.
Приятели ехали молча. Борис Андреич улыбался про себя, заслоненный от Петра Васильича приподнятым воротником енотовой своей шубы, и ждал, что-то он скажет.
– Опять не то! – воскликнул Петр Васильич.
Но на этот раз в голосе его замечалась какая-то нерешительность, и он, силясь взглянуть на Бориса Андреича через воротник своей шубы, прибавил вопросительным голосом:
– Ведь, не правда ли, не то?
– Не то, – со смехом отвечал Борис Андреич.
– Я так и думал, – возразил Петр Васильич и, помолчав немного, прибавил: – Однако, в сущности, почему же не то? Чего недостает этой девице?
– Ей ничего не недостает. Напротив, у ней всего слишком…
– То есть как это слишком?
– Да так!
– Позвольте, Борис Андреич, я вас не понимаю. Если вы говорите насчет образованности, то разве это худо? А что касается до характера, до поведения…
– Эх, Петр Васильич, – возразил Борис Андреич, – я вам удивляюсь, как вы, с вашим ясным взглядом на вещи, не видите насквозь эту сюсюкающую Эмеренцию? Эта приторная любезность, это постоянное самообожание, это скромное убеждение в собственных достоинствах, эта снисходительность ангела, смотрящего на вас с вышины небес… Да что и говорить! Уж если на то пошло и в случае необходимости, я в двадцать раз охотнее женился бы на ее сестре: та, по крайней мере, умеет молчать!
– Конечно, вы правы, – ответил вполголоса бедный Петр Васильич.
Внезапная выходка Бориса Андреича его озадачила.
«Нет, – сказал он самому себе, и сказал это в первый раз после своего знакомства с Вязовниным, – этот мне не пара… слишком учен».
А Вязовнин, с своей стороны, думал, глядя на луну, стоявшую низко над белой чертой небосклона: «И это словно из «Онегина»… «Кругла, красна лицом она…» – но хорош мой Ленский, и хорош я, Онегин!»
– Пошел, пошел, Ларюшка, – прибавил он громко.
И Ларюшка, кучер с седой бородой, погнал лошадей.
– Так не то? – шутливо спросил Борис Андреич Петра Васильича, вылезая, с помощью лакея, из саней и взбираясь на крыльцо своего дома, – а, Петр Васильич?
Но Петр Васильич ничего не отвечал и отправился ночевать к себе. А Эмеренция на другой день писала своей приятельнице (она вела огромную и деятельную переписку): «Вчера у нас был новый гость, сосед Вязовнин. Он очень милый и любезный человек, сейчас видно, что очень образованный, и – сказать тебе на ушко? – мне сдается, я произвела на него довольно сильное впечатление. Но не беспокойся, mon amie[76]: мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего».
Этот Валентин был учитель в губернской гимназии. В городе пускался он во все тяжкие, а в деревне вздыхал по Эмеренции, платонически и безнадежно.
А приятели, по обыкновению, сошлись снова на другое утро, и жизнь их потекла прежним порядком.
Прошло две недели. Борис Андреич ежедневно ожидал нового приглашения, но Петр Васильич, казалось, совершенно отступился от своих намерений. Борис Андреич сам начинал заговаривать о вдове, о Тиходуевых, намекая на то, что всякую вещь должно испытать до трех раз; но Петр Васильич и не показывал виду, что понимает его намеки. Наконец Борис Андреич в один день не выдержал и начал так:
– Что же это, Петр Васильич? Видно, теперь моя очередь напоминать вам ваши обещания?
– Какие обещания?
– А помните, вы хотели женить меня? Я жду.
Петр Васильич повернулся на стуле.
– Да ведь вишь вы какие разборчивые! С вами не сообразишь. Бог вас знает! На ваш вкус здесь у нас, должно быть, и невест-то нету.
– Это нехорошо, Петр Васильич. Вы не должны так скоро отчаиваться. С первых двух раз не удалось – это еще не беда. Притом же мне вдова понравилась. Если вы от меня откажетесь, я к ней поеду.
– Что ж, поезжайте, – с богом.
– Петр Васильич, уверяю вас, я не шутя желаю жениться. Повезите меня куда-нибудь еще.
– Да право же, нет больше никого в целом околотке.
– Этого быть не может, Петр Васильич. Будто здесь, по соседству, нет ни одной хорошенькой?
– Как не быть? Да не вам чета.
– Однако назовите какую-нибудь.
Петр Васильич стиснул зубами янтарь чубука.
– Да вот хотя бы Верочка Барсукова, – промолвил он наконец, – чего лучше? Только не для вас.
– Отчего?
– Слишком проста.
– Тем лучше, Петр Васильич, тем лучше!
– И отец такой чудак.
– И это не беда… Петр Васильич, друг мой, познакомьте меня с этой… как бишь вы ее назвали?..
– Барсуковой.
– С Барсуковой… пожалуйста…
И Борис Андреич не дал покоя Петру Васильичу, пока тот не обещал свезти его к Барсуковым.
Дня два спустя они поехали к ним.
Семейство Барсуковых состояло из двух лиц: отца, лет пятидесяти, и дочери, девятнадцати лет. Петр Васильич недаром назвал отца чудаком: он был действительно чудак первой руки. Окончив блестящим образом курс учения в казенном заведении, он вступил в морскую службу и скоро обратил на себя внимание начальства, но внезапно вышел в отставку, женился, поселился в деревне и понемногу так обленился и опустился, что, наконец, не только никуда не выезжал – не выходил даже из комнаты. В коротеньком заячьем тулупчике и в туфлях без задков, заложив руки в карманы шаровар, ходил он по целым дням из угла в угол, то напевая, то насвистывая, и, что бы ему ни говорили, с улыбкой на все отвечал: «Брау, брау», то есть: браво, браво!
– Знаете ли что, Степан Петрович, – говорил ему, например, заехавший сосед, – а соседи охотно к нему заезжали, потому что хлебосольнее и радушнее его не было человека на свете, – знаете ли, говорят, в Белеве цена на рожь дошла до тринадцати рублей ассигнациями.