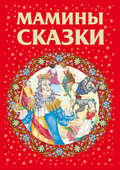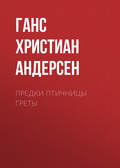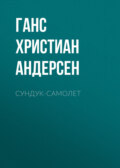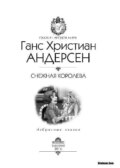Ганс Христиан Андерсен
Сказка моей жизни
Народы на Севере понимают, ценят и любят друг друга; дай Бог, чтобы этот дух единства и любви соединил и все страны!
* * *
Большую часть лета я провел в Глорупе; приезжал туда и весной и осенью, и был, таким образом, свидетелем как прибытия, так и отъезда шведов. Сам я не был на поле военных действий, а оставался в Глорупе; сюда постоянно приезжали оттуда люди, сюда же стекалось много людей, желавших повидаться с родственниками, и просто любопытных. Сколько наслушался я здесь трогательных и прекрасных рассказов! Говорили, например, о какой-то старушке, которая вышла со своими внучатами навстречу нашим солдатам, усыпая им путь песком и цветами и крича вместе с малышами: «Бог да благословит датчан!» Говорили также о замечательной игре природы: в саду одного крестьянина в Шлезвиге расцвел красный мак с белыми крестами – точно знамя Данеброга! Один из моих друзей побывал на Дюппеле; все дома носили следы страшной бомбардировки, и все же на одном из них красовался символ мира: гнездо аиста со всей его семьей. Пальба, огонь и дым не смогли отогнать родителей от птенцов, еще не умевших летать.
Оставил я Глоруп поздней осенью. С наступлением зимы военные действия приостановились, и наступившее наружное спокойствие дало мыслям возможность хоть на время возвратиться к обычным занятиям. В течение лета я окончил в Глорупе свой роман «Две баронессы», и описания природы в нем немало выиграли в свежести и правдивости благодаря лету, проведенному на лоне природы.
Книга вышла в свет, и успех ее был довольно большой, если принять во внимание время и обстоятельства, при которых она вышла. Гейберг написал мне любезное письмо и дал в честь меня обед для кружка близких друзей и знакомых. За столом он очень мило провозгласил тост за меня, как автора «этого романа, чтение которого освежает читателя, как прогулка по лесу весной». Это было в первый раз в течение многих лет, что Гейберг высказался обо мне как о писателе так сердечно. Меня это очень порадовало, а такие радостные минуты заставляют забывать все старое, горестное, оставляя в памяти лишь одно новое, хорошее.
18 декабря хотели отпраздновать столетний юбилей Датского королевского театра. Гейберг и Коллин по обоюдному соглашению поручили написать пролог для торжества – мне. Я представил дирекции план пролога, и он был одобрен благодаря современности главной его идеи. Я хорошо знал тогдашнее настроение публики, знал, что мысли всех несутся теперь вслед за армией. Пришлось и мне последовать за ними и перенести место действия задуманного мной пролога туда, а затем уже постараться снова вернуть зрителей к сцене датского театра. Я был глубоко убежден, что сила наша не в мече, а в духовном развитии, и я написал «Данневирке искусства» [31]. В день торжества пролог сделал свое дело и имел большой успех, но затем дирекция стала давать его в виде приманки вечер за вечером в течение целой недели, чего, конечно, не следовало бы; настроение публики было уже не то.
В январе была поставлена опера Глезера «Свадьба на озере Комо», для которой я написал либретто. Опера имела успех и сразу выдвинула композитора, к которому у нас до того времени относились крайне равнодушно и несправедливо. Теперь пресса воздала ему должное; немало похвал выпало и на долю балетмейстера Бурнонвиля, аранжировавшего танцы в опере, только обо мне не обмолвились и словом. Зато Глезер горячо благодарил меня за мое содействие успеху его оперы.
В апреле всех как громом поразила весть, что в Великий четверг военный фрегат «Кристиан VIII» взлетел со всей командой на воздух. Стон стоял над всей страной; это было поистине всенародное горе. Я был потрясен так же, как будто бы сам находился на обломках погибавшего судна. Из всей команды спасся только один человек, но и это уже показалось всем какой-то победой, свалившимся с неба богатством! На улице встретился со мной мой друг капитан-лейтенант Кр. Вульф. Глаза его сияли. «Знаешь, кого я привез с собой? – начал он: – Лейтенанта Ульриха! Его не взорвало вместе с командой, он спасся, и вот я привез его!» Я совсем не знал лейтенанта Ульриха, но невольно заплакал от радости. «Где ж он? Мне надо видеть его!» – «Он отправился к морскому министру, а оттуда к матери, которая считает его погибшим».
Я зашел в первый попавшийся магазин, достал адресную книгу и узнал, где живет мать Ульриха; но когда я дошел до ее квартиры, меня взяло сомнение: знает ли она или нет? И отворившей мне двери горничной я прежде всего задал такой вопрос: «Печаль или радость у вас в доме?» Лицо девушки засияло. «Ах, какая радость! Молодой барин точно с неба упал к нам!» И я без дальнейших церемоний прошел в залу, где находилась вся семья, одетая в траур; они только что облеклись в него утром, как вдруг мнимо погибший сын явился перед ними целым и невредимым! Я со слезами бросился к нему на шею; я не мог совладать со своим чувством, и все сразу почувствовали и поняли, что я являюсь тут не чужим.
Военные события сильно меня расстроили, я страдал и душевно и физически. В это время как раз гостила в Копенгагене Фредерика Бремер, и ее рассказы о ее прекрасном отечестве возбудили во мне непреодолимое желание переменить обстановку и проехаться или в Далекарлию, или в Гапаранду. Фредерика Бремер поддержала во мне это желание и снабдила меня бесконечным количеством писем к своим друзьям, рассеянным по всей Швеции. А в друзьях-то больше всего и нуждаешься, путешествуя по этой стране – здесь не везде-то найдешь гостиницы; приходится прибегать к гостеприимству священников или хозяев усадеб.
В самый день Пасхи я переправился в Гельсингборг. Стояла чудная весна; от молодых березок разливался аромат свежей зелени. Солнышко так славно грело; все путешествие обратилось в какую-то поэму; отзвуки ее и найдутся в картинах и набросках, собранных впоследствии в моей книге «По Швеции».
Одной из первых моих встреч в Стокгольме была встреча с Линдбладом, композитором чудных мелодий, с которым познакомила Европу Йенни Линд. Линдблад и похож на нее, как может походить брат на сестру; тот же оттенок грусти, у него, впрочем, несколько более резкий. Он просил меня написать для него оперное либретто, и мне очень хотелось исполнить его просьбу. Еще бы! Сила его музыкального гения окрылила бы мои стихи!
Издатель магистр Багге ввел меня в Стокгольмское литературное общество, давшее в честь меня и немецкого гостя, доктора Лео, обед. Президент провозгласил тост «за двух почетных гостей: господина Андерсена из Копенгагена, автора «Импровизатора» и «Сказок», и за доктора Лео, редактора «Северного телеграфа». Затем поднял бокал за мое здоровье магистр Багге, и в прекрасной, прочувствованной речи провозгласил тост за меня и за мое отечество, и попросил меня передать моим землякам сердечный привет шведского народа.
Я ответил на это строфой из моей песни:
Зунд сверкал, как меч стальной,
Наши страны разделяя;
Чьей-то брошена рукой
Ветка роз, благоухая,
Мостом стала в добрый час!
Место нам-то назовите,
Розы где взросли?
– Парнас!
– Кто же бросил их, скажите,
К нам сюда из высших сфер?
– Эленшлегер и Тегнер! —
и прибавил: «Много и других скальдов появилось на датском и шведском берегах, и благодаря им-то народы и стали понимать друг друга лучше, почувствовали в себе биение родственных сердец. Биение шведского сердца отозвалось в последнее время в наших сердцах особенно явственно. В эту минуту я чувствую это особенно сильно!» Тут слезы выступили у меня на глазах, а кругом загремело «ура!»
Бесков представил меня королю Оскару, который принял меня так сердечно, что мне показалось, будто мы с ним старые знакомые, а между тем я видел его в первый раз. Я поблагодарил короля за пожалованный мне недавно орден Северной Звезды. Он долго беседовал со мной и, между прочим, высказал чувства особой симпатии к датскому народу и нашему королю. Разговор зашел и о войне. Я сказал, что в самом характере нашего народа лежит сознание права, которого он и держится крепко, забывая даже о своей малочисленности. В беседе этой я имел случай узнать и оценить благородную душу короля. Под конец он спросил меня, скоро ли я вернусь обратно в Стокгольм из Упсалы, куда я собирался, – он желал тогда пригласить меня во дворец к обеду. «И королева, супруга моя, – сказал он, – знакома с вашими произведениями и будет рада познакомиться с вами лично!»
По возвращении из Упсалы я и был приглашен к королевскому столу. Королева, очень напоминавшая свою мать, герцогиню Лейхтенбергскую, которую я видел в Риме, приняла меня просто и сердечно и сказала, что давно знает меня по моим произведениям и по «Das Märchen meines Lebens». За столом я сидел рядом с Бесковым, прямо против королевы. После обеда я прочел вслух сказки: «Лен», «Гадкий утенок», «История одной матери» и «Воротничок». Во время чтения сказки «История одной матери» я заметил на глазах благородной королевской четы слезы. И как тепло, сердечно выразили они потом мне свою признательность, какие они оба были простые, милые! Прощаясь, королева протянула мне руку, которую я поцеловал. И она и король оказали мне честь, пригласив меня вновь посетить их и прочесть им еще что-нибудь. В следующий раз меня и Бескова пригласили в покои королевы за час до обеда. Здесь мы нашли королеву, принцессу Евгению, кронпринца, принцев Густава и Карла, а скоро явился и король. «Поэзия оторвала меня от дел!» – сказал он. Я прочел «Ель», «Штопальную иглу», «Девочку со спичками» и по общему желанию «Лень». Король слушал с большим вниманием. «Глубокая поэзия, которою дышат эти маленькие поэмы», как он выразился, очень нравилась ему, и он прибавил, что читал эти сказки еще во время своей поездки в Норвегию. Все три принца крепко пожали мне руку, а король пригласил меня присутствовать на празднестве в день его рождения четвертого июля. Бескову было поручено быть моим чичероне.
Вскоре я узнал, что в Стокгольме затевается публичное чествование меня, и мне стало не по себе. Я ведь знал, какое неудовольствие возбудит такое чествование у нас на родине, сколько даст пищи злым пересудам. И при одной мысли, что мне придется быть героем праздника, меня била лихорадка; я, как преступник – суда, боялся этого торжественного вечера с заздравными тостами и длинными речами.
Вечер, однако, настал. В торжестве принимали участие и многие дамы, в том числе известная, даровитая г-жа Карле´н, не столь известная, но очень даровитая романистка «Вильгельмина» (псевдоним) и артистка г-жа Страндберг. Г-жа Карле´н пригласила меня прогуляться с ней под руку по саду, но нам нельзя было удалиться в ту часть сада, куда мне хотелось, туда, где не теснились зрители, а надо было именно показаться публике, которая «тоже желала видеть г-на Андерсена». Все это свидетельствовало о расположении ко мне, но меня порядком мучило; мысленно я уже видел весь этот праздник в карикатуре на страницах «Корсара». Ведь даже Эленшлегер, перед которым все-таки привыкли преклоняться, попал в карикатуру после своей поездки в Швецию!
В аллее нас встретила толпа детей с бесконечной гирляндой из цветов в руках; они сыпали передо мною цветы и теснились вокруг меня, а в толпе вокруг все снимали передо мной шляпы. А что я думал в это время? «В Копенгагене опять поднимут меня за это на смех, опять обрушатся на меня!» Я был совсем расстроен, но приходилось казаться веселым, чтобы не обидеть этих милых, добрых людей, и я старался придать всему шутливый оттенок, поцеловал кого-то из ребятишек, поболтал с другими. За ужином поэт, пастор Меллин, провозгласил тост за мое здоровье, сказав предварительно несколько слов о моей литературной деятельности, затем было произнесено несколько приветственных стихотворений романистки «Вильгельмины», а затем прекрасные стихи г-жи Карле´н. В ответной речи я высказал, что принимаю все эти знаки сердечного расположения как своего рода задаток и с помощью Божьей постараюсь заработать его трудом, в котором выскажу свою любовь к Швеции. Я и постарался выполнить свое обещание. Актер-драматург Йолин прочел на местном наречии «Далекарлийскую историю», певцы королевского театра Страндберг, Валлин и Гюнтер спели несколько шведских песен, потом заиграл оркестр, и первое же, что я услышал, была наша датская мелодия на мою песню «Есть чудная страна!». В одиннадцать часов вечера я отправился домой, радуясь выказанному мне расположению, а также возможности отдохнуть от стольких треволнений.
Скоро я был на пути в Далекарлию. Письмо Фредерики Бремер помогло мне в Упсале свести знакомство с поэтом Фалькранцем, братом знаменитого пейзажиста; встретился я здесь и со своим другом, поэтом Бетгером, женатым на дочери Тегнера, Дизе. Уютное гнездышко этих двух счастливцев было залито солнышком поэзии и счастливой семейной жизни.
Номер, который я занимал в отеле, примыкал к большому залу; там как раз пировали студенты. Узнав, что я их сосед, они прислали ко мне депутацию с приглашением пожаловать к ним – послушать их пение и принять участие в их веселье. Я сейчас же принялся искать между ними лицо, с которым бы я мог сойтись. Один бледный, высокий студент очень мне понравился, и я, как узнал потом, не ошибся в выборе. Он пел так хорошо, с таким выражением. Это был гениальный композитор и поэт Веннерберг, автор сборника чудных мелодий и дуэтов «Глюнтарне». В другой раз я слышал, как он пел с Берониусом свои чудные песни, доставившие ему славу «современного Бельмана». Было это у начальника области, в доме которого я встретил вообще самое избранное общество Упсалы. В этом же доме познакомился я с Аттербомом, певцом «Blommorna», певшим нам об «Острове Блаженства». Правду сказал Мармье, что между поэтами существуют какие-то масонские знаки, по которым они сразу узнают и понимают друг друга; я почувствовал это, знакомясь с милым стариком-поэтом Аттербомом.
Путешествующему по Швеции необходимо иметь свой экипаж, и мне пришлось бы обзавестись им, если бы начальник области любезно не предложил мне на все время поездки своего. Профессор Шредер позаботился снабдить меня мелкой медной монетой и кнутом, а Фалькранц написал мне маршрут, и вот началась оригинальная поездка, несколько напоминающая поездки по тем местностям Америки, где еще не проведено железных дорог. Этот способ передвижения, резко отличавшийся от того, к какому я привык, как будто перенес меня в эпоху за сто лет до нашего времени. Проколесив по разным городам и местечкам Швеции, я опять через Упсалу вернулся в Стокгольм, где нашел точно родной дом в доме г-жи Бремер. В этом уютном, богатом доме жилось так хорошо, и я познакомился здесь со всеми членами семьи, принадлежавшей к числу лучших в Швеции. Тут же имел я случай лишний раз убедиться в том, насколько неосновательны были ходившие и в Дании и за границей слухи о жизни и положении этой писательницы. Когда она только что вступила на литературное поприще, говорили, что она живет гувернанткой в каком-то знатном семействе, а на самом деле она жила вполне самостоятельно в собственном имении Аоста.
В чужом городе меня влечет обыкновенно не только к выдающимся живым людям, но и к дорогим могилам славных усопших. Мне всегда хочется принести на эти могилы или взять с них на память цветок. В Упсале я побывал на могиле Гейера; на ней еще не было воздвигнуто памятника. Могила Тёрнероса вся заросла сорной травой. В Стокгольме же я разыскал могилы Никандера и Стагнелиуса и съездил в Сольну, где покоятся на маленьком кладбище Берцелиус, Хореус, Ингельман и Крусель, на большом – Валлин. Постоянным же моим убежищем в Стокгольме был и остается, впрочем, дом Бескова, которого еще король Карл Иоган возвел в баронское достоинство. Он был из числа тех милых людей, которые как будто озаряют все окружающее ровным кротким светом. Что это была за редкая, сердечная натура и какой талантливый человек! О последнем свидетельствуют и рисунки его, и музыкальность. Самый голос его, несмотря на его преклонный возраст, звучал в пении так мягко и свежо. Литературное же его значение достаточно известно; трагедии его в переводах Эленшлегера стали известны и в Германии.
Последний день моего пребывания в Стокгольме совпал с днем рождения короля Оскара. Я присутствовал на торжестве во дворце, и по окончании его королевская чета и все принцы простились со мной в высшей степени сердечно. Я был растроган, как при разлуке с близкими, дорогими людьми.
В «Воспоминаниях» Эленшлегера говорится о графе Сальца; автор рисует его очень интересной личностью, но, заинтересовав читателя, не дает о ней более обстоятельных сведений. Вот что говорит Эленшлегер: «Меня посетил однажды один знакомый епископа Мюнтера. Это был высокий, видный швед; войдя, он назвал мне свое имя, но я не расслышал, переспросить мне было неловко, и я надеялся, что еще услышу его в разговоре или же сам догадаюсь, кто он. Он сказал мне, что явился посоветоваться со мной насчет сюжета для водевиля, который собирается писать. Сюжет оказался довольно милым, и я постарался запомнить: «Итак, это писатель водевилей!» Затем гость мой завел разговор о Мюнтере, как о старом своем друге. «Надо вам знать, – сказал он, – что я занимался богословскими науками и перевел откровение Иоанна». – «Автор водевилей и богослов!» – держал я в уме. «Мюнтер тоже масон! – продолжал он. – Он мой ученик, я ведь глава ложи!» – «Автор водевилей, богослов и глава масонской ложи!» – продолжал я свои соображения. Затем он заговорил о короле Карле Иогане, очень хвалил его и прибавил: «Я хорошо знаю его! Мы с ним распили не один стаканчик!» – «Автор водевилей, богослов, глава масонской ложи и близкий друг Карла Иогана!» – перебирал я в уме, а он продолжал: «Здесь в Дании не принято надевать свои ордена, но завтра я пойду в церковь и надену все свои!» – «Отчего же нет!» – ответил я, а он продолжал: «У меня все они есть!» Тогда я к автору водевилей, богослову, главе масонской ложи и близкому другу Карла Иогана прибавил еще «кавалера ордена Серафима». В конце концов незнакомец свел разговор на своего сына, которого он воспитывал в традициях рода, насчитывающего в числе своих предков первых завоевателей Иерусалима. Тогда-то все мне стало ясно. Гость мой был не кто иной, как граф фон Сальца! Так оно и было».
В приемной короля Оскара Бесков и представил меня этому самому графу Сальца. Он сейчас же с истинно шведским гостеприимством пригласил меня завернуть на обратном пути к нему в имение Мем, если он будет там в то время, когда пароход остановится на этой пристани. Или же я мог посетить его в имении Сэбю, близ Линкёпинга, которое лежит на дальнейшем моем пути, недалеко от канала. Я принял это приглашение за обыкновенную любезность, которой редко приходит на ум воспользоваться.
Но когда я плыл обратно на родину, перед выходом нашим из Роксена на пароход взошел композитор Иосефсон, гостивший в имении у графа Сальца, и объявил мне, что граф, разузнав, каким пароходом я поеду, поручил ему перехватить меня по дороге и отвезти в экипаже в Сэбю. Это уже говорило о таком радушии, что я наскоро собрал свои пожитки и отправился в проливной дождь в Сэбю, где в замке итальянской архитектуры проживал граф со своей милой, умной дочерью, вдовой барона Фок.
«Между нами духовное сродство! – сказал мне радушно встретивший меня старик-хозяин. – Я почувствовал с первого взгляда на вас, что мы не чужие друг другу!» Скоро я всей душой привязался к этому оригинальному, милому и умному старику. Он рассказывал мне о своем знакомстве с разными королями и князьями, о переписке, в которой он находился с Гёте и Юнгом Штилингом. Предки графа были, по его рассказам, норвежскими крестьянами-рыбаками; они прибыли в Венецию, спасли христианских пленников, и Карл Великий сделал их князьями Сальца. Рыбачья слободка, лежавшая на месте нынешнего Петербурга, принадлежала прадеду графа, и мне рассказывали, будто бы граф сказал однажды русскому императору, бывшему в Стокгольме: «Столица вашего величества лежит, собственно, на земле моих предков!» А император на это шутливо ответил: «Ну так придите и возьмите ее!»
Во время моего пребывания в Сэбю как раз отмечался день рождения графа, который и был отпразднован очень торжественно, чисто по-помещичьи.
Случайно в этот же день была получена почта – письма и газеты. «Новости из Дании! Победа при Фредериции!» – услышал я торжественный возглас. Это были первые печатные сведения об этой битве, все живо интересовались ею; я схватил лист с именами убитых и раненых.
На радостях граф Сальца приказал откупорить шампанское, а дочь его наскоро соорудила знамя Данеброга, и его торжественно водрузили над столом. До обеда старик много рассказывал о былой вражде между шведами и датчанами; он даже берег три датские пули, из которых одна ранила его отца, другая – его деда, а третья убила прадеда; теперь же он поднял в честь дружественной нации полный бокал шампанского и так тепло говорил о нравах и обычаях датчан, что у меня на глазах выступили слезы.
В семье жила старая гувернантка, немка, кажется, из Брауншвейга; она уже давно сжилась со Швецией и, слыша теперь в речи графа упреки по адресу Германии, расплакалась и детски-наивно стала извиняться передо мною: «Я ничего тут не могу поделать!» Я, поблагодарив графа и выпив за его здоровье, тотчас же протянул руку к доброй немке и сказал: «Наступят лучшие дни, когда немцы и датчане снова протянут друг другу руки, как мы теперь, и выпьют кубок мира!» И мы чокнулись.
Хорошо было в Сэбю: прекрасная живописная природа, лес, скалы и озеро. С грустью покинул я этот гостеприимный приют и оригинального старика-хозяина.
* * *
Всюду в Швеции господствовало увлечение Данией и всем датским, и я, как датчанин, то и дело убеждался в этом.
В Мотале я решил провести несколько дней; всю местность, по которой я ехал сюда, можно назвать садом Гётеборгского канала; здесь чудесное сочетание чисто шведской природы с датскою: роскошные буковые леса, озера, скалы и водопады. Тут получил я сердечное, свежее, милое письмо от Диккенса, который только что прочел мой новый роман «Две баронессы». Этот день был для меня настоящим праздником; на столе у меня красовались принесенные мне кем-то чудные розы.
Отсюда я съездил в древнюю Вадстену; роскошный замок ее стал теперь ригою, величественный монастырь – домом умалишенных. Перед отъездом из Моталы я ночевал в маленькой гостинице близ моста. Выехать я должен был рано поутру и поэтому спать улегся с вечера пораньше, сейчас же заснул, но скоро проснулся. Меня разбудило прекрасное хоровое пение. Я встал, приотворил дверь номера и спросил служанку: кому это из высоких особ дают серенаду? «Да это вам!» – сказала она. «Мне?!» – удивился я и не сразу сообразил, в чем дело. Но вот раздалась моя песня: «Есть чудная страна!» Ясно было, что серенаду дают мне, т. е. не поэту, а датчанину Андерсену. Любовь шведов к датчанам вообще для меня лично распустилась тут цветком. Фабричные рабочие прослышали, что я вернулся из Вадстены, а утром уже оставляю Моталу, и добрые люди пришли выразить мне свою симпатию и участие. Я вышел к ним и пожал руку ближайшим; я был глубоко тронут и благодарен им, но, разумеется, уж больше не заснул в ту ночь.
И в каждом местечке, каждый день ожидал меня новый праздник. Симпатии к датчанам проявлялись с такой сердечностью и увлечением, о каких земляки мои и понятия не имели.
Через несколько дней я был в Дании. Моя наиболее, по-моему, разработанная книга «По Швеции» является, так сказать, духовным результатом этой поездки, и смею думать, что в ней-то более ярко, чем в каком-либо другом из моих произведений, выступают характерные особенности моей музы: описания природы, сказочный элемент, юмор и лиризм, насколько последний может вылиться в прозе. Первая рецензия на эту книгу появилась в шведской газете «Bore»: «В этой книге не встречаешься с обыкновенными впечатлениями и размышлениями туристов; вся она в целом – поэма в прозе, распадающаяся на несколько отдельных картин, составляющих, однако, одно целое. И эта поэма написана тем же наивным, детски-чистосердечным языком, проникнута тем же открытым взглядом на природу и народную жизнь, которыми отличаются и все стихотворения и рассказы Андерсена и за которые мы, шведы, так любим его. Картины обыденной жизни прекрасно и непринужденно переплетены с историческими воспоминаниями и фантазиями, а все вместе составляет истинно поэтическую путешествие-сказку, светлую летнюю картину Севера».
И у нас на родине, где в последние годы критика не только стала говорить обо мне более приличным тоном, но и оказывать моим произведениям больше внимания и сочувствия, также отозвались об упомянутой книге с похвалами. Особенно выделяли все историю «Сон» и «Поэтическую Калифорнию».
Новый, 1850 год принес мне с собою великое горе; великим горем было это и для Дании и ее искусства. Вот что писал я в письме в Веймар: «Эленшлегер умер 20 января, как раз в день кончины короля Кристиана VIII и почти в тот же час. Два раза в этот вечер прошел я мимо Амалиенборгского дворца, направляясь к Эленшлегеру; я знал от докторов, что он уже при смерти, и, проходя мимо дворца, невольно думал: «Два года тому назад я ходил здесь в смертельной тревоге за моего дорогого короля, теперь испытываю такую же тревогу за другого короля – короля поэтов. Он умер без страдания, окруженный своими детьми. Перед смертью он просил прочесть ему вслух сцену из его трагедии «Сократ», ту именно, в которой мудрец говорит о бессмертии и вечной жизни. Он был вполне спокоен, молился лишь о том, чтобы предсмертная борьба не была слишком мучительна, опустил голову на подушку и уснул вечным сном».
Я видел его в гробу; разлитие желчи придавало его лицу вид бронзовой статуи; вообще же он не был похож на мертвого; лоб его был все так же прекрасен, выражение лица – благородно-величаво, 26 января его похоронили. Хоронил его народ в полном значении этого слова; чиновники, студенты, матросы, солдаты – словом, представители всех сословий поочередно несли гроб весь долгий путь до Фредериксбергского кладбища. Во Фредериксбергском дворце он родился, близ него и желал быть похороненным. Торжественная заупокойная служба состоялась в соборе Богоматери. Были пропеты два песнопения, написанные по просьбе литературного комитета Грунтвигом и мною. Речь говорил епископ Мюнстер. Королевский театр почтил память великого поэта торжественным представлением его трагедии «Гакон Ярл» и той сцены из трагедии «Сократ», которую читали ему перед смертью.
В последние годы Эленшлегер, к величайшей моей радости, относился ко мне особенно тепло и сердечно. Раз, когда я зашел к нему, сильно расстроенный издевательством надо мною одной газеты, он подарил мне орден Северной Звезды (орден этот был мне пожалован королем Шведским в день погребения Кристиана VIII) и сказал: «Я носил его, а теперь прошу вас принять его от меня на память! Вы истинный поэт! Я вам это говорю, так пусть другие болтают себе, что хотят!»
14 ноября 1849 года торжественно отпраздновали его 70-летнюю годовщину, и вот как скоро после этого пришлось справлять по нем поминки! Известно, что почивший поэт выражал перед смертью желание, чтобы на торжественном спектакле в память его была поставлена именно трагедия его «Сократ». Как уже сказано, дали лишь одну сцену из нее. Я, собственно, не понимаю, как мог великий поэт заботиться в такую минуту о подобных мелочах; я бы предпочел, чтобы он сказал перед смертью, как «умирающий поэт» Ламартина: «Что за дело лебедю, уносящемуся к солнцу, до слабой тени, которую набросили на волны его крылья!»
В день торжественного представления театр был переполнен. Ложи первого яруса были обиты траурным крепом, кресло Эленшлегера было тоже окутано флером и увенчано лавровым венком.
«Как это Гейберг мило придумал! – обратилась ко мне одна дама. – Сам Эленшлегер был бы тронут таким вниманием». Я невольно ответил: «Да его бы обрадовало, что хоть сегодня-то ему оставили место!» Как только Гейберг стал директором театра, он сразу уменьшил число даровых мест для поэтов, композиторов, бывших директоров театра и разных чиновников, оставив для них одни крайние кресла. Так как сюда, кроме того, впускали еще почти всех артистов, певцов и балетных солистов, то при большом наплыве их бесплатных мест хватало для какой-нибудь трети имевших право на них. Эленшлегер при жизни каждый вечер бывал в театре, но если случалось ему немножко запоздать и если никто из занявших места заблаговременно не уступал великому поэту своего, то приходилось ему и постоять. Часто мы оказывались соседями, и он в таких случаях обращался ко мне с шутливо-жалобным вопросом: «Куда ж мне теперь деваться?» Сегодня вечером ему все-таки оставили место! Это было как раз то кресло, которое он выбрал себе при прежней дирекции. Гейберга можно извинить тем, что риксдаг (народное собрание) настаивал на сокращении числа даровых мест, но для Эленшлегера, величайшего нашего драматического писателя, все-таки можно было бы, кажется, сделать исключение. Итак, к настроению моему в этот торжественный вечер примешалось чувство горечи; ну да это случилось со мною под сводами нашего национального театра не впервые!
От этого театра перейду к другому, тому самому, о котором один из наших писателей так презрительно выразился: «какое-то «Казино»!» Копенгагенцы обогатились в последние годы народным театром; он возник как-то сам собою, мало кто думал о нем, особенно же о том, что у него есть будущность. Многие подумывали об устройстве такого театра, говорили, писали, но дальше этого дело не шло и не пошло бы, не будь у нас одного молодого талантливого деятеля, не имевшего за душой ничего, но одаренного удивительною способностью доставать деньги, если нужно было осуществить какую-нибудь идею. Он сумел устроить для копенгагенцев «Тиволи», которое по плану и устройству может потягаться с любым увеселительным садом других европейских городов. Он же устроил и театр «Казино», где публика за небольшую плату могла слушать музыку и смотреть драматические представления и где можно было также устраивать общедоступные концерты и маскарады. Человек этот был Георг Карстенсен. Впоследствии талант его и деловитость были оценены и в Америке, где он вместе с X. Гильдмейстером построил Нью-Йоркский Хрустальный дворец. Карстенсен был человек редкой доброты, что и было, по-моему, главным его недостатком. Над ним насмехались, глумились, называя его «увеселительных дел мастером», а между тем его деятельность была все-таки очень почтенна, доставила людям много и пользы, и удовольствия.