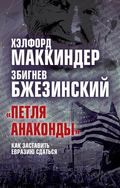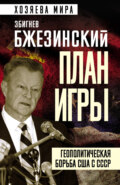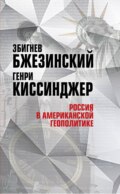Збигнев Бжезинский
Второй шанс. Америка и мир (сборник)
4
Беспомощность благих намерений
(и цена снисходительного отношения к собственным слабостям)
Нет больше разделения между внешним и внутренним – есть мировая экономика, мировая окружающая среда, мировая проблема распространения СПИДа, мировая гонка вооружений – они затрагивают всех нас.
(21 января 1993 г.)
На заре XXI века свободный народ должен теперь избрать путь для формирования институтов информационной эры и глобального общества.
(20 января 1997 г.)
Сегодня мы должны принять неумолимую логику глобализации.
(26 февраля 1999 г.)
Глобализацию нельзя ни задержать, ни предотвратить. Это экономический эквивалент таких сил природы, как ветер, вода.
(17 ноября 2000 г.)
Поезд глобализации нельзя развернуть назад.
(8 декабря 2000 г.)
В отличие от своего предшественника президент Билл Клинтон обладал глобальным ви́дением. Исторический детерминизм, свойственный концепции глобализации, превосходно сочетался с глубоким убеждением Клинтона в том, что Америка, для того чтобы именоваться «незаменимой мировой державой», должна также обновить и саму себя. Внешняя политика для Клинтона была в основном продолжением внутренней. Через несколько лет он вспоминал, как был удивлен тем, как мало внимания внутренним делам уделял президент Буш в ходе предвыборной кампании 1992 года. Вся страна видела, как однажды во время президентских дебатов Буш нетерпеливо поглядывал на часы. Казалось, внутренние вопросы нагоняли на него скуку. Это впечатление помогло Клинтону формировать свою предвыборную стратегию и политику в период его президентства.
Внутреннее обновление стало, таким образом, главной задачей Клинтона в его первый президентский срок. Но поскольку внешние проблемы нельзя было игнорировать, Клинтон сделал акцент на глобализации, создав удобную формулу, соединяющую внутренние и внешние дела во взаимосвязанную задачу, а это некоторым образом освобождало его от обязанности проводить четко сформулированную, строго определенную внешнеполитическую стратегию. Поэтому глобализация стала темой, которую Клинтон проповедовал с апостольской убежденностью как дома, так и за границей. Во время визита во Вьетнам в ноябре 2000 года он назвал глобализацию «экономическим эквивалентом силы природы», а несколькими месяцами раньше, выступая в Думе России, заявил, что для сегодняшнего мира «определяющая черта – глобализация».
Относительное понижение приоритета международных дел в политике Клинтона подчеркивается (быть может, и непреднамеренно) поразительным контрастом между мемуарами Джорджа Г. У. Буша и Клинтона. Почти шестисотстраничный том Буша, написанный вместе с его советником по национальной безопасности, посвящен – с вполне обоснованной гордостью за достижения авторов – исключительно внешним делам. Даже о вполне заслуживающей упоминания армейской службе Буша во время войны в мемуарах не говорится ничего. Клинтон же написал длинный отчет о своей жизни (на 1008 страницах!), тактично и осторожно касаясь некоторых личных вопросов, в котором восьмилетнее руководство внешней политикой второго мирового лидера в истории изложено довольно поверхностно и обобщенно, занимая около 15 процентов всего объема книги. Даже госсекретарь Клинтона во время его второго срока, гораздо более активная и напористая, чем ее предшественник, посвятила достаточно большую часть ее собственных мемуаров воспоминаниям, не относящимся непосредственно к внешнеполитической стратегии и ее осуществлению.
Перефразируя знаменитый афоризм Клаузевица «война есть продолжение политики другими средствами», можно сказать, что Клинтон в отличие от Буша действительно рассматривал внешние дела как продолжение внутренней политики. Это сказалось и на внешнеполитических решениях, принимавшихся при нем, и на подборе главных фигур, занимавшихся внешней политикой. Уже первые сделанные Клинтоном назначения – советника по вопросам национальной безопасности (Энтони Лейк), государственного секретаря (Уоррен Кристофер) и министра обороны (Лес Аспин) – создавали двойственное представление: его команда была явно либеральной по своим взглядам, внимательной к гуманитарным вопросам, восприимчивой к проблемам внутренней политики, но не была склонна к персональной, бюрократической или военной зашоренности. Лейк был слишком озабочен углублением гуманитарного кризиса в Африке. Кристофер, значительно старше Клинтона по возрасту, пользовался большим уважением как человек, избегавший подчеркивать собственное положение и известный своей общительностью. (В Вашингтоне о нем в шутку говорили: «Он у нас такой жизнелюб».) Аспин был опытным политиком, хорошо разбирающимся во внутренних вопросах, с быстрым и ищущим умом, но не имел опыта в стратегическом планировании или в решении крупномасштабных организационных проблем. Ни все вместе, ни по отдельности они не имели желания торопить президента с разработкой программы внешней политики.
Во время второго срока с небольшим запозданием произошли некоторые изменения. К тому времени президенту пришлось заниматься делами более интенсивно, и его внешнеполитическая команда активизировала свою деятельность. Новым советником по национальной безопасности стал Сэнди Бергер, искушенный политик, приятель Клинтона еще со школьных лет и поэтому более уверенный в себе и энергичный. Новый госсекретарь Мадлен Олбрайт была решительной сторонницей расширения НАТО и более четкой геополитической ориентации деятельности СНБ с упором на Европу. В дальнейшем, когда югославский кризис вылился в крупномасштабный силовой конфликт, эта ориентация сыграла важную роль. Билл Перри, ставший министром обороны еще в период первого президентства, был известным специалистом в военных вопросах. Во время второго срока его сменил Билл Коэн, бывший сенатор-республиканец, придавший работе в сфере обороны и национальной безопасности оттенок двухпартийности.
Более заметные изменения по сравнению с президентством Буша произошли в механизме управления. Характерной чертой стиля Буша было управление по вертикали, осуществлявшееся узким кругом лично известных президенту лиц под его непосредственным контролем или под контролем «второго я» президента, его сдержанного и осторожного советника по вопросам национальной безопасности. Трудно представить манеру руководства более непохожую на стиль Буша, чем стиль Клинтона. Он нарушал большинство принятых правил, и его было трудно охарактеризовать. Обсуждения внешнеполитических вопросов в Белом доме при Клинтоне больше походили на то, что немцы называют «кафеклатч», обменом сплетнями, чем на процедуру принятия политических решений высокого уровня. Они выливались в долгие совещания без строгой повестки, редко укладывающиеся во временны́е рамки, с неожиданным появлением в качестве участников различных сотрудников аппарата Белого дома. Некоторые занимались главным образом внутренними вопросами и присутствовали на заседаниях СНБ по собственному желанию, произвольно включаясь в обсуждение вопросов внешней политики. Президент, особенно в течение первого срока, скорее был одним из участников, чем руководителем с решающим голосом, и когда совещание наконец заканчивалось, часто оставалось неясным, какие же решения были приняты и были ли они приняты вообще. Это усложняло жизнь советника по национальной безопасности, потому что не было уверенности, что после принятия решения последуют необходимые скоординированные действия.
Колин Пауэлл, бывший при Клинтоне председателем Комитета начальников штабов, охарактеризовал эту атмосферу просто: «Как будто мы были в кафе», рассказывая об этом Дэвиду Роткопфу, который в очерке о системе СНБ «Управляя миром» писал: «Если вы, например, прилетели с Марса и не знаете, кто есть кто, то, включившись в разговор, вы не догадались бы, кто президент». И хотя со временем все это приняло более привычную форму, другие высшие чиновники все же вспоминают, что даже в течение второго президентского срока у Клинтона на заседаниях по внешней политике не было доминирующего голоса. Ни президент, ни вице-президент, ни советник по национальной безопасности, ни государственный секретарь не брали на себя этой функции. Изменчивые личные влияния и проистекавший отсюда бюрократический разброд так и не удавалось полностью преодолеть. Новообразованный Национальный экономический совет (НЭС) в противоположность СНБ работал в более четком и профессиональном режиме, возможно, потому, что внешняя политика казалась сферой, в которой каждый может высказаться, в то время как вопросы экономики и финансов доверены лишь посвященным. Во главе Совета был поставлен ответственный представитель министерского уровня и с четкими полномочиями, и это сразу дало результат, когда администрация Клинтона столкнулась с финансовым кризисом в Мексике и Юго-Восточной Азии.
Понимание внешней политики как продолжения внутренней, имеющей приоритет, дало немаловажный побочный эффект: Конгресс под усиливающимся давлением лоббистов, имевших зарубежные связи, расширил сферу законодательного регулирования внешней политики. Нельзя сказать, что это было чем-то совершенно новым. В прошлом, особенно когда внешняя политика формировалась на двухпартийной основе, исполнительная власть время от времени вступала в контакт с Конгрессом для создания законов, способствующих достижению внешнеполитических целей США и усилению согласовательных механизмов исполнительной власти путем кажущегося ограничения ее прав. В период после вьетнамской войны акцент переместился на законодательную власть с целью возложить на власть исполнительную специфические задачи, решения которых добивалось внешнеполитическое лобби, или просто ограничить свободу действий исполнительной власти. Такая тенденция отмечалась и в 1990-е годы, и она сохранилась до настоящего времени, заявив о себе серией законодательных актов, принятых под энергичным давлением весьма влиятельного внешнеэкономического лобби, продвигавших вопросы, в которых заинтересована та или иная национальность, но которые не отражают точки зрения Белого дома или Государственного департамента. Наиболее активными и наиболее успешными из них были израильско-американское и кубинско-американское лобби, имевшие ресурсы, для того чтобы добиться желаемых изменений при решении вопросов распределения Конгрессом финансовых средств и обеспечения большой избирательной поддержки в двух главных штатах – Нью-Йорке и Флориде.
Все более осложняя процесс принятия внешнеполитических решений, отчасти пользуясь упрощенно-оптимистическим взглядом Клинтона на положение в мире, Конгресс, средства массовой информации и заинтересованные лоббисты периодически организовывали пропагандистские кампании, избирая в качестве мишени тех, кто мог бы быть назван «врагом американского народа». Кампании в прессе сопровождались враждебными речами и резолюциями Конгресса в адрес, например, Ливии, затем Ирака, затем Ирана, затем Китая и всякий раз подчеркивая угрозу для Соединенных Штатов, якобы исходящую от каждой из этих стран. Это был парадокс: объективно безопасная и мощная Америка, выигравшая холодную войну, занималась поисками демонов, чтобы оправдать свою субъективную уязвимость, возникшую после 11 сентября на благодатной почве неотступных страхов.
Проблема, с которой столкнулся Клинтон и возникновению которой он косвенно способствовал, полностью так и не решив ее, состояла в том, что мир после холодной войны не был столь благополучным, каким он изображался в бодрых детерминистских представлениях о глобализации. Но, отдавая должное Клинтону, следует отметить, что нестабильное состояние в мире делало очень трудным четкое определение приоритетов во внешней политике и выявление основных геополитических угроз. В критических ситуациях, с которыми столкнулся президент Клинтон, в отличие от Буша I, не было явного преобладания добра или зла, как это происходило в ходе разрушительного кризиса советского блока и Советского Союза или вследствие вызывающего акта агрессии, совершенного вторжением Саддама в Кувейт.
Клинтон оказался перед рядом самых разных и при этом иногда пересекающихся проблем, мирных и немирных, отражавших все более тревожные и взрывоопасные ситуации в мире, которые зарождались вслед за американо-советской холодной войной. Появились два новых фактора, отсутствовавших в период президентства Буша. На фоне многочисленных сложных кризисов нижеприведенная хронология дает представление о более конструктивных внешнеполитических инициативах США в сфере общемировых проблем, выходивших за пределы традиционной сферы силовой политики.
Международная хронология с января 1993-го по декабрь 2000 года
1993 год. Намерение Северной Кореи иметь ядерное оружие становится очевидным после предъявленных МАГАТЭ обвинений в обмане общественности. Соединенные Штаты начинают длительный процесс расширения НАТО, в то время как Маастрихтский договор устанавливает этапы трансформации Европейского сообщества в Европейский союз. Совершена попытка взрыва во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Вспыхивает насилие в Боснии. После кровопролитных столкновений миротворческие войска США выводятся из Могадишо в Сомали. Соглашения в Осло кажутся признаком продвижения вперед в урегулировании израильско-палестинских отношений.
1994 год. Благодаря активной законодательной деятельности Клинтона вступает в действие Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В феврале НАТО начинает наступательные действия в Боснии. Россия неофициально включена в «Большую семерку» – ежегодную встречу на высшем уровне главных промышленно развитых демократических государств. США предоставили Китаю статус наиболее благоприятствуемой нации. Разгораются страсти по поводу стремления Северной Кореи к обладанию ядерным оружием, но в октябре США и Северная Корея заключают Рамочное соглашение о взаимных уступках. В сентябре Клинтон убеждает Россию в необходимости расширения НАТО. В этом же месяце США направляют миротворцев на Гаити, в то время как в Руанде продолжается никем не пресекаемый геноцид. В конце года Россия начинает войну в Чечне.
1995 год. Учреждена ВТО. После заключения соглашения с Россией о строительстве АЭС возле Бушера Иран наряду с Северной Кореей становится источником угрозы распространения ядерного оружия. В Израиле убит премьер-министр Рабин. В Тайваньском проливе произошло первое из двух столкновений Японии с Китайской Народной Республикой. В администрации Клинтона достигнут неофициальный консенсус по вопросу расширения НАТО на восток. Россия заявляет протест в связи с началом воздушных бомбардировок Боснии авиацией НАТО, но вооруженное вмешательство приводит в ноябре к Дейтонскому соглашению и прекращению военных действий в Боснии.
1996 год. США подписывают Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Происходят первые официальные двусторонние американо-северокорейские переговоры. Второе столкновение в Тайваньском проливе заканчивается ничьей и укреплением союза между США и Японией. Талибы захватывают Кабул. Накануне выборов в американский Конгресс Клинтон делает публичное заявление о намерении расширить НАТО.
1997 год. Умирает бывший лидер Китая Дэн Сяопин. Гонконг возвращается Китаю. В мае подписан Основополагающий акт о взаимоотношениях между Россией и НАТО. Шестью неделями позже Польше, Чешской Республике и Венгрии направлено официальное предложение присоединиться к НАТО. Пакистан заявляет о своей возможности стать ядерной державой. Разражается азиатский финансовый кризис. Подготовлен Киотский протокол о снижении выбросов окиси углерода в атмосферу, но Сенат США 95 голосами при отсутствии воздержавшихся или голосов «против» одобряет оговорки к нему.
1998 год. Россия формально стала членом «Большой восьмерки». США предприняли карательную бомбардировку Ирака. Индия и Пакистан провели у себя испытания ядерных бомб. Переговоры между Израилем и Палестиной, проходившие под эгидой США в Вай-Ривер, дали незначительные результаты. «Аль-Каида» совершила нападение на посольство США в Восточной Африке. США ответили бомбардировками Афганистана и Судана. Япония и Китайская Народная Республика приняли совместную декларацию о достигнутом примирении. США подписали Киотский протокол, но его не представили в Сенат для ратификации.
1999 год. НАТО ведет кампанию за изгнание Сербии из Косово. Происходит формальное расширение НАТО. Международные силы с участием США устанавливают мир в Восточном Тиморе. Сенат США отвергает Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Русское наступление в Чечне – начинается вторая чеченская война. Президент России Ельцин уходит в отставку. Международная агитация против глобализации усиливается. Индекс Доу Джонса превышает 10 000. В США растут страхи перед сбоем компьютерных систем из-за наступления нового тысячелетия.
2000 год. Владимир Путин избран президентом России. Начинается вторая интифада. Умирает президент Сирии Асад. «Аль-Каида» совершает нападение на американский военный корабль «Коул». Государственный секретарь США направляется с визитом в Северную Корею, а заместитель Ким Чен Ира посещает Вашингтон. Начало резкого падения фондового рынка США. Второй раунд переговоров в Кэмп-Дэвиде, проведение которого намечалось накануне президентских выборов в США и долго откладывалось, завершается провалом. В конце декабря Клинтон подписывает Римский статут Международного суда, но отмечает, что не намерен представлять его на одобрение Сената.
Формирование будущего
Молодость, ум и красноречие Клинтона наряду с ярко выраженным идеализмом сделали его превосходным символом доброй, но всемогущей Америки, признанной мировым лидером. Он предложил миру то, что Буш не смог или не успел: привлекательную картину будущего. Под влиянием картины истории, нарисованной Клинтоном в розовых тонах, и неопровержимой логики глобализации гонка вооружений должна была бы уступить дорогу контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, война – миру и национальному строительству, соперничество между странами – организованному глобальному сотрудничеству, основанному на наднациональных правилах поведения.
Даже если Клинтон переоценил благотворный эффект глобализации, он все равно, повышая свой авторитет, подтвердил новые возможности, открывающиеся Америке. Придав этому подтверждению красноречивую риторическую форму, помогавшую укрепить в международном общественном мнении новый сверхдержавный статус Америки, Клинтон создал привлекательный образ молодого лидера, интересующегося технологическими и экологическими вопросами, стоящими перед человечеством, которое сознает моральную ущербность глобального статус-кво и необходимость совместных усилий для решения проблем, с которыми не под силу справиться отдельным странам.
Уход с мировой сцены Советского Союза с его приверженностью идеологическому единообразию открывал Клинтону три существенные возможности для реализации его программы упрочения всеобщей безопасности и сотрудничества.
• Во-первых, это создавало условия для расширения американских и российских инициатив в ограничении гонки вооружений между двумя государствами, которая много лет сдерживала возможность использования средств на социальные цели, усиливая международную напряженность. Менее антагонистические отношения позволяли ввести более эффективные ограничения на испытания, производство и распространение ядерного оружия.
• Во-вторых, исчезновение биполярного мира делало возможным создание мощной системы совместной безопасности. Начало ей могло бы быть положено решительными мерами, препятствующими обретению ядерного оружия все большим числом стран.
• В-третьих, конец разделения Европы означал, что теперь может появиться расширившаяся и более жизнеспособная Европа, тесно связанная с Америкой узами Атлантического союза. И это богатое демократическое сообщество могло бы стать внутренним политическим и экономическим ядром, основой мирового сотрудничества.
Администрация Клинтона стремилась использовать все эти три возможности, но не всегда успешно. Некоторые цели оказались слишком амбициозными, и их риторика выходила за пределы возможного. Достижение других наталкивалось на укоренившееся наследие прошлого, проявившееся после прекращения холодной войны. Возникали проблемы и в связи с тем, что способность президента воодушевлять и руководить падала из-за личных трудностей и вследствие нежелания Америки преодолеть вредную привычку потакать своим желаниям и пойти на некоторое ограничение национального суверенитета, которое она ожидала от других стран.
Развал советской сверхдержавы и экономический кризис в России создали особенно благоприятные условия для достижения первой цели – сдерживания гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Поначалу здесь был заметен реальный прогресс. Программа Нанна – Лугара выделяла финансовые средства для консолидации советского ядерного арсенала в пределах территории самой России. Начатая в последний год президентства Буша и завершенная в 1996 году, эта программа не позволяла Украине, Белоруссии и Казахстану иметь ядерное оружие. Трудно даже представить, как бы выглядела безопасность Европы десять лет спустя, если бы эти три страны превратились в ядерные державы.
Второй Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенный с Россией в 1993 году, также предусматривал существенное уменьшение ядерных арсеналов Америки и России и был еще одним важным шагом к прекращению гонки вооружений, продолжавшейся более сорока лет. Примерно через год Договор о взаимном перенацеливании ракет еще больше уменьшил страх перед разрушающим обменом ядерными ударами. Были предприняты шаги к обеспечению безопасности российских сооружений для хранения ядерных боеголовок и других ядерных материалов. Более того, тысячи единиц ядерного оружия и систем доставки были дезактивированы и демонтированы. Соединенные Штаты также добились обязательства Украины присоединиться к Договору о нераспространении в качестве государства, не имеющего ядерного статуса, в обмен на увеличение экономической помощи.
Также удалось убедить Украину расторгнуть заключенный в последние дни существования Советского Союза контракт с Ираном о строительстве ядерного реактора в Бушере. Однако Соединенные Штаты впоследствии не выполнили своего обещания о компенсации украинскому заводу в Харькове, лишившемуся заказа на строительство реактора в Иране. Вопрос этот еще более осложнился в начале 1995 года, когда Россия договорилась с Ираном о завершении частично уже построенного объекта.
Результатом всех этих шагов был переход от порождающей угрозу безопасности гонки за стратегическое превосходство к более предсказуемому стабильному уровню противостояния. Обе стороны сохраняли способность нанесения устрашающего удара. Обе сохраняли возможность повышения эффективности их теперь уже количественно ограниченных арсеналов. Обе могли бы даже рассчитывать на достижение значительного стратегического преимущества путем технологического совершенствования своих вооружений или путем каких-то новых возможностей, способных подорвать контроль над системами другой стороны. Но на данном отрезке времени как Америка, так и Россия могли избежать опасности, что бесконечная и неконтролируемая гонка вооружений может внезапно поставить одну из них перед выбором: капитулировать перед подавляющей мощью противника или стать жертвой одностороннего разрушения.
Таким образом, в середине 1990-х годов от Советского Союза уже не исходило политических вызовов и вслед за тем была остановлена самая опасная и потенциально разрушительная гонка вооружений в истории человечества. И хотя окончание холодной войны не привело к разоружению в более широком международном масштабе, установление разумных рамок в самом расточительном и вызывавшем политическую неустойчивость соперничестве дало миру уверенность в том, что холодная война действительно окончена.
Ограничение гонки вооружений при Клинтоне свидетельствовало также об осторожном пересмотре доктрины стратегического превосходства Буша. Де-факто это означало обещание Америки, данное России, что Соединенные Штаты не воспользуются своим преимуществом, которое дают им богатство и технологическое ноу-хау, чтобы получить решающее стратегическое превосходство, вызывающее опасения у другой стороны. В то же время, принимая во внимание высокий уровень американской экономики и одновременный провал российской, Соединенные Штаты могли направить свои ресурсы на быстрое увеличение и развертывание по всему миру обычных вооруженных сил и повысить их боеспособность, о чем со стороны России не могло быть и речи. Короче говоря, Америка и Россия обе усиливали свою безопасность, но Америка при этом обретала несопоставимое военное влияние.
Несмотря на то что весь мир получал существенную выгоду от этой стратегической сделки между двумя государствами, обладавшими способностью в течение нескольких минут развязать чудовищную войну, везде росло понимание необходимости более широкой и более эффективной системы безопасности. Угрожающая перспектива того, что обнищавшие страны могут приобрести ядерное оружие и использовать его в политических конфликтах с соседями, оправдывала новую форму сдерживания. Как отмечалось в предыдущей главе, такая опасность во время президентства Буша исходила от Северной Кореи, Индии, Пакистана, Ливии и, возможно, от Ирана. Только Америка, не связанная больше холодной войной, была способна преградить путь такому развитию.
Пару недель спустя после первой инаугурации Клинтона Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не имевшее гарантий того, что Северная Корея подчинится его атомной программе, выдвинуло требование проведения специальных проверок. Северокорейский режим не только отказался пойти на это, но вызывающе заявил о намерении выйти из Договора о нераспространении, процитировав статью 10, которая предусматривает возможность выхода по причинам национальной безопасности. Так возник первый кризис, с которым столкнулась Америка в качестве нового мирового лидера, влекущий за собой осложнения, выходившие далеко за пределы Северной Кореи.
Нельзя точно сказать, чем при этом руководствовалась Северная Корея, но некоторые соображения, связанные с осуществлением Америкой ее роли, вполне уместны. Северная Корея не могла не принять во внимание быструю победу Америки во время войны в Заливе в 1991 году, одержанную над противником, не обладавшим серьезным средством сдерживания превосходящей мощи обычных Вооруженных сил США. Более того, распад Советского Союза и последующее американо-российское стратегическое урегулирование, возможно, вызвало у Северной Кореи тревогу, что российский ядерный зонтик больше не служит защитой для оставшихся коммунистических государств, выполняя теперь свои функции противостояния американской ядерной угрозе лишь в отношении самой России. Китайцы, между тем, совершенно намеренно заняли позицию минимального стратегического сдерживания, достаточного, с их точки зрения, лишь для того, чтобы не допустить угроз Китаю, но недостаточно широкую, чтобы служить защитой своего воинственного и непредсказуемого соседа. Не имея ядерной защиты, Северная Корея, по-видимому, пришла к заключению, что ее интересам лучше всего будет отвечать тайное приобретение собственного ядерного потенциала, достаточного для нанесения существенного ущерба интересам США, даже если на первых порах только в Южной Корее или Японии.
Далее последовала игра в кошки-мышки, и здесь администрации Клинтона вряд ли есть чем гордиться. На выход Северной Кореи из Договора о нераспространении Соединенные Штаты отреагировали предложением оказать ей помощь в осуществлении мирной ядерной программы. Графитовые ядерные реакторы Северной Кореи, способные создавать компоненты для изготовления ядерного оружия, предлагалось заменить реакторами на легкой воде. Кроме того, Соединенные Штаты брали на себя обязательство не применять силу против Северной Кореи. Однако эта конструктивная программа не была сбалансирована надежными карательными мерами, например угрозой морской блокады северокорейского судоходства, тем более при полной свободе действий Америки и почти полной изоляции Северной Кореи. К концу 1993 года, по оценке ЦРУ, Северная Корея уже наработала около двенадцати килограммов плутония – количества, достаточного для одной или двух бомб.
Следующие несколько лет были свидетелями то успокаивающих жестов со стороны Северной Кореи, то вызывающих действий. В 1994 году она дала согласие на инспекции, потом отказалась их принять, далее заявила о выходе из МАГАТЭ, а затем заключила с США «согласованный план действий», предусматривавший прекращение северокорейской ядерной программы в обмен на экономические льготы и обещание нормализации экономических и дипломатических отношений. В течение нескольких следующих лет США и Северная Корея вели бесплодные дебаты о северокорейских ракетных программах, включая экспорт северокорейской ракетной технологии. Однажды, а именно в 1996 году, администрация Клинтона затеяла игру с идеей превентивного удара по ядерным объектам Северной Кореи, но решила прибегнуть вместо этого к ограниченным экономическим санкциям. Потом начались более широкие региональные консультации по северокорейской проблеме, сначала с Японией и Южной Кореей, а позднее с Китаем.
Незавершенный характер всех этих инициатив побудил Южную Корею установить прямой канал общения с Севером, что получило название «политика солнечного света», которая отражала и стимулировала подъем как панкорейского национализма среди южных корейцев, так и растущую неудовлетворенность статусом страны как американского протектората. Главной стороной, получившей от этого геополитические выгоды, был Китай, потихоньку использовавший эти настроения наряду с корейским антагонизмом в отношении Японии, чтобы повысить влияние в регионе. В 1999 году бывший министр обороны Клинтона посетил столицу Северной Кореи с целью неофициальных переговоров о возможности широкомасштабного американо-северокорейского урегулирования. В конце 2000 года, как раз за две недели до президентских выборов в США, госсекретарь Клинтона Мадлен Олбрайт также встретилась с лидером Северной Кореи, пытаясь добиться какого-либо сдвига в отношениях. В качестве сладкой приманки она использовала возможность визита в Пхеньян для встречи с диктатором самого президента Клинтона, оказав тем самым на собеседника скорее успокаивающее, чем побуждающее воздействие.
Из вышесказанного можно сделать три вывода. Во-первых, для Северной Кореи так и не возникла заслуживающая доверия перспектива, что цена решимости приобрести ядерное оружие может перевесить выгоды от его приобретения. Во-вторых, колебания США дали Пхеньяну возможность эксплуатировать растущее желание Южной Кореи к примирению с Севером, тем самым ухудшая совместную позицию на переговорах США и Южной Кореи. И, в-третьих, что самое важное, в течение всего этого времени Северная Корея была в состоянии продолжать свои разработки, в результате чего к 2001 году американские чиновники пришли к выводу, что Северная Корея тайком создала несколько единиц ядерного оружия. Вызов Северной Кореи таким образом состоялся.