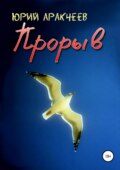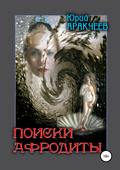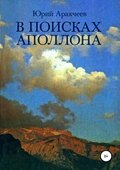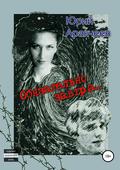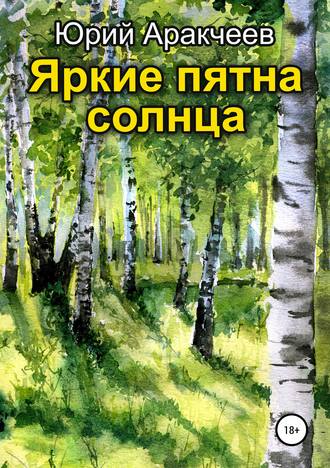
Юрий Сергеевич Аракчеев
Яркие пятна солнца
11
Печально мне было, горько. Трудно даже выразить, как. Нина, Аленушка, Юля… Красота Кремля, озера, Серегина удаль, «Славка»… Все это сплавилось в странную смесь, и невозможно было во всем разобраться. Ведь столько вокруг красоты, как будто бы, а вот… Мучительный ком переживаний словно бы застрял в моем сознании и требовал понимания, какого-то действия, но я, ей-богу же, не знал, какого именно. Первоначальное блаженно-созерцательное состояние путешественника сменилось совсем другим, мучительно-размышляющим, но ведь этого мне и так хватает в обычной жизни. И приходили уже мысли, что зря я, наверное, вернулся. Хотел праздника, а вышло… Что же касается Нины, то какая же она на самом-то деле? Уж как-то все в тот длинный день переплелось – невезения прямо свалились, а на самом деле что?
Обстоятельства, они, конечно? Ну, а помимо них? Мы-то сами значим что-нибудь, или одни только обстоятельства? Эти бесконечные перемены в ней… А главное – нелепая моторность в ситуации «бутылка». Можно ли хотя бы в принципе сделать так, чтобы она, Нина, была такой, как утром, как потом в музее и сразу же после него, перед озером и дождем? Хотя бы теоретически можно? И если да, то как?
Утром я просыпался несколько раз, видел серые сумерки за окном, слышал шум дождя и засыпал опять. Мутные какие-то были сны. Наконец проснулся окончательно. О продолжении путешествия не могло быть и речи. Представляю, как развезло обочины шоссейных дорог и проселочные. Я остался один в большом номере – обитатели гостиницы разбрелись кто куда, а Алик так и не ночевал, он, по слухам, уехал в Иваново насчет работы. И я принялся размышлять. Отчего это все-таки происходит? – размышлял я. Неужели обстоятельства так сильны, что мы, люди, перед ними уже и бессильны? Мы часто сетуем, например, на водку. Водка, мол, губит, не пьет человек – человек, а запьет – и нечеловек уж. Но ведь пьют отчего-то люди…
Всю жизнь мне казалось, что путь прямых категорических запретов ошибочен. Ведь человек может справиться со своими пороками только сам, «изнутри», сознательно преодолевая. Сознательно – от слова «знание». Категорический же прямой запрет потому бессмыслен, что он лишает человека возможности познания и даже наоборот – покрывает непознанное этаким загадочным флером, таинственным, очень соблазнительным сиянием. Запрет без объяснения и просвещения – обострение проблемы, а не решение ее. Не случайно же родилась пословица:«запретный плод сладок». Не запрет нужен, наверное, а что-то другое. Что?..
В одном я убежден совершенно – и жизненный мой опыт подтверждал такое неоднократно: не захочет Аленушка одурманивать себя, если поймет, осознает истинную свою красоту, если увидит, что и другие понимают это, не нужны будут ей грубые, скучные удовольствия, если испытает она более тонкие, разнообразные, если почувствует себя сложнее, глубже, в тысячу раз интереснее. Если ощутит, что в ней, как и во всяком другом человеке, – вселенная. И если, конечно, получит возможность – как и всякий другой человек – об этой своей вселенной во всеуслышание заявить, поделиться с другими. Вот и Нина моя… Да, неудачно складывалось у нас, но…
У меня вот как часто бывает. Думаешь о чем-то, ломаешь голову, пытаясь осмыслить – и тут подвернется что-нибудь на глаза или на слух: этакая подсказка мне, бестолковому, этакий отзвук «из центра», волна. И вздрогнешь даже: вот ведь он, ответ. Бывает, это какое-то событие, разговор или прочитанная книга, статья. Иной раз достаточно одного абзаца, а то и фразы или слова даже, поставленного в неожиданном сочетании. И тут как будто бы кристаллизация происходит, рождается решение, мысль. Как говорит восточная мудрость: «Срок настанет – и муравей гонцом придет». Главное, чтобы срок настал. Созреть, значит.
Так и получилось, что когда я обо всем этом думал – по радио была какая-то литературная передача, слова журчали, я привычно пропускал их мимо ушей, но вдруг услышал явственно: «Самым отрицательным человеческим качеством он считал безделье, лень. Очень ценил образованность…» Эта была передача о Корнее Чуковском. В первый момент я еще не понял, как относились эти слова к тому, о чем думал я, но по тому, что я так явственно их услышал и что-то во мне немедленно им откликнулось, ясно было: обязательно относились. Но как?
«Образованность» – понятно. Это та самая «культура», о недостатке которой в один голос говорили уважаемые обитатели нашей гостиницы вчера. Но образованности и, так сказать, наличия культурных материальных ценностей, конечно, мало – правильно выразился Николай Алексеевич, хотя и недоговорил. Что он имел в виду, интересно? Ясно же, что истинная культура – это еще и умение приложить прочитанное, увиденное к жизни. То есть умение жить по-человечески с другими. И не только с людьми, я бы сказал. Мы ведь все связаны не только с людьми, но и с природой тоже. Чтобы понять это, нужна, конечно, и образованность… Ну, хорошо, а лень?
Пока я умывался и завтракал, вот что пришло мне в голову. Что если бы доходы от продажи вина, водки и сигарет пускать исключительно на строительство библиотек, читален, музеев, клубов и кинотеатров, бассейнов, лодочных станций, фабрик туристического снаряжения, книжных типографий? И учредить бы из этих доходов ежегодные премии художникам, писателям, кинематографистам, учителям? чем не идея! Смешно, конечно, наивно, а все же.
Представляю такую картину. Приезжаем в далекий глухой поселок или маленький город, а там… Прекрасная библиотека с сотнями тысяч томов, читальные залы, клубы, бассейны, искусственное озеро с лодками напрокат, с яхтами. Что за диво? Откуда?.. И местное начальство в конце концов шлет депеши в Москву: просим средств на дальнейшее развитие быстро растущих духовных потребностей населения (кстати, тоже быстро растущего!), так как прежние источники средств истощились… На что Москва отвечает: разрешаем отчислять столько-то процентов с прибыли вашего совхоза, так как она за последнее время необычайно выросла (за счет увеличения производительности труда и укрепления трудовой дисциплины). Вот такие, значит, пироги. Зеленый змий, пожирающий сам себя с хвоста. Я прямо даже такой плакат вижу… Грустно и смешно.
Идти к Нине мне не хотелось. Все нарушилось как-то, сломалось, не было уже того очарования, кружева, инструменты, ведущие мелодию, поперхнулись. Я сидел в номере гостиницы, смотрел на дождь, потом вздумал записывать свои впечатления в тетрадь. Но не успел как следует расписаться, потому что в номер заглянул Николай Алексеевич. И откуда это он опять взялся?
– А, это вы, Юра, доброе утро, – лучась приветливостью, сказал он. – Что это вы здесь, никуда не идете?
– Дождь, Николай Алексеевич, – ответил я, кивая на окна. – Боюсь, как бы вообще не застрять мне с велосипедом. Представляете, какие дороги сейчас.
– Да-а, кошмарная погода, – согласился Николай Алексеевич и тут же добавил с наигранной бодростью:
– Но, может быть, еще наладится?
Он был приветлив, предупредителен, доброжелателен до приторности. И мне показалось вдруг: из одной только фальшивой приветливости он согласится сейчас со всем, что бы я ни сказал. Интеллигентный, конечно, человек, но… Разве это культура? И, настроенный на размышления, понял я, что всегда раздражало меня в людях такой породы (при всей, заметьте, симпатии к ним и родстве с ними): поверхностная, приторная уступчивость, этакая немедленная готовность – тоже ведь признак «культурности», – желание непременно, во что бы то ни стало «делать добро». Этакий дешевенький оптимизм. Добро! Да всегда ли знаем мы, что такое истинное добро? И не для себя ли мы частенько делаем его, говоря, что делаем для других? Не для того ли, чтобы самим себе поставить «галочку» за «проведенную работу»? Что нам сплошь да рядом Нины, Юли, Аленушки, тем более, если они не наши дети, а вовсе чужие? Мы абстрактно делаем «добро» – вот в чем беда-то наша…
Я опять вспомнил сценку с Николаем Алексеевичем на Рыбинском море (этот? другой?..), и раскрылось мне опять новое, еще с одной стороны ясно стало, почему я тогда так некрасиво с ним поступил. Ну, конечно же. Беспомощность, приторность, этакая обидная мягкотелость, которую я заметил в нем сразу же, – при явных, как будто бы, внешних достоинствах. Это в нашем-то яростном мире. И это при том еще, что такие люди как раз и могли бы внести в мир то, чего ему так не хватает. Сознание и любовь.
Я шел тогда, нарочно оставляя его позади, с намеренной грубостью, ненавидя уже тогда в нем – как и в себе! – обидную беспомощность эту, слабость, я шел, провоцируя его на ответ, на протест, на искреннюю и бесстрашную оценку моего поведения, но ни нотки достоинства, ни нотки самосознания, ни нотки истинного духа не услышал я в его жалобном «Где вы? Юра, где вы?». Нет, на самом-то деле! Почему это вдруг беззащитность – ведь я же не давал ему повода, это потом, оправдывая его, мучая себя по привычке, я тот повод признал. Чего это он так сразу за мое обещание ухватился? Даже не попытался инициативу проявить, обрадовался – ведь твердо я ему и не обещал… Овечка беспомощная. Оба мы хороши. Крепка, крепка эта ниточка нашей истории: даже добро мы делаем по указке! Сказали – и делаем, не думая, добро это на самом деле или бездушное «выполнение плана». Для кого он, план-то?
– Николай Алексеевич, – сказал я теперь, не в тон ему, опять грубовато, пожалуй, злясь, конечно, не столько на него, сколько на себя. – Вот мы вчера недоговорили… Насчет общежития девочек и вообще. Я, собственно, не в первый раз сталкиваюсь, путешествовал, пришлось повидать. Вы сказали вчера: в культуре дело. А что это такое – культура? Вы ведь хотели сказать, а не сказали. И что вообще нужно делать, чтобы всем нам по-человечески жить? Конечно, у нас не везде так, как здесь, – есть большие, хорошие города, есть очень даже культурные люди, да и молодежь у нас, конечно, хорошая, передовая – это мы знаем, ясно. Но все-таки. Нетипично это, понятно, понятно, а все же: эти-то девочки да и ребята здешние чем же виноваты? А? Как вы считаете?
Странное дело: Николай Алексеевич смутился.
– Да-да, вы правы, конечно, я согласен с вами, – почему-то с виноватой улыбкой заговорил он, блестя очками, и было ясно: родственная душа, он хорошо понял меня. – Они ни при чем, я знаю, – продолжал он, почему-то пряча глаза. – И ужасно все это. Но – Россия. Гигантская страна все-таки. Всколыхнуть ее по-настоящему, знаете ли… Вот мы новую турбину недавно сдали в Сибири – я вам не говорил еще, нет? Новую! Триста тысяч киловатт! Каково, а? Будет свет! Будет свет! – повторил он с бодростью и посмотрел на меня с воодушевлением.
Странно, думал я, воодушевления почему-то не разделяя. Ведь я не согласен сейчас ни с одним утверждением его. «Ужасно все это». А что ужасно-то? Жизнь? Разве жизнь можно снивелировать на одну мерку и спокойно утверждать: то ужасно, а это вот не ужасно? Может быть, не так и ужасно, а? Это ведь как посмотреть. И что значит «всколыхнуть»? И при чем тут «триста тысяч киловатт»? Так ли это все однозначно? Что с ними делать-то, с тремястами?
– Это прекрасно, конечно, – сказал я. – Электрический свет – прекрасно. Свет, тепло. Но ведь электрический свет – одно, а вот…
– Не все сразу! – прервал на этот раз меня мой вежливый собеседник, мгновенно поняв и с каким-то испугом не давая мне договорить. – Не все сразу, – повторил он, и лицо его стало почти суровым, а глаза за стеклами очков как бы спрятались.
– Сначала турбины, – продолжал Николай Алексеевич сурово и назидательно, – сначала объекты, так сказать материальные, а потом уж и…
– Когда же потом? – прервал в свою очередь я.
– После турбин, – ответил он быстро, и лицо его как-то странно сморщилось – я даже не мог понять, улыбка это или гримаса досады.
– После турбин? – переспросил я. – А не отвыкнем ли мы?.. Но тут за окном раздался автомобильный гудок, и на лице Николая Алексеевича появилось чрезвычайно озабоченное выражение.
– Ах, извините меня! – спохватился он, опять меня прерывая. – Заговорился я тут, а меня ждут. Извините, ради бога. Все это очень интересно, но меня там… Всего вам наилучшего, до свидания.
И он скрылся.
Я посмотрел в окно и увидел, как через минуту от гостиницы отъехала черная «Волга». Несколько минут я просидел в одиночестве, глядя на нескончаемый нудный дождь, находясь в странном взвешенном состоянии. Откуда у него эта несомненная уверенность в своей правоте? Причем уверенность-то, как выяснилось, вполне показная… Может быть, именно ею он и пытается скрыть растерянность? Но зачем такая игра? И почему он всегда так внезапно скрывается в решительный момент?
И вдруг я услышал голос. Звали меня. Звал мужской голос с улицы. Я выглянул в окно.
– Ты Юра? – спросил незнакомый парень.
– Да. А что?
– Выйди, пожалуйста, тебя зовут.
Чувствуя себя как-то смутно, я вышел из гостиницы. Под деревом, укрываясь от дождя, стояла Нина. Она улыбалась мне.
– Я попросила позвать, – сказала она, оправдываясь. – Самой неудобно было, понимаешь.
12
И вот ведь странно как. Чего бы, кажется, еще и желать? Стоя на берегу озера в день своего приезда сюда и глядя на то, как они с Аликом в лодку садились, мог ли я предположить, что не пройдет и трех дней, как Нина сама придет к гостинице и вызовет меня и не станет даже придумывать никакой причины, а просто скажет: «Хочешь, пойдем к нам, сегодня никого не должно быть, все разъехались?» Чего бы, кажется, еще и желать? Но, увы, я почему-то не испытывал прежнего волнения. Волнение я, конечно, испытывал, но оно было совсем другим.
Я сходил за полиэтиленом и мы отправились. Нина уютно придвинулась ко мне под мутно-прозрачной пленкой, и, может быть, только одно было не совсем так, как в музее: она не была наряжена, не блистала по-вчерашнему. Но зато в ней опять чувствовалась обволакивающая мягкость.
Мы шли молча, и я вдруг осознал, что изо всех сил пытаюсь вызвать в себе вчерашнее, воскресить, отгоняю ночные мысли да и сегодняшние, тушу, сминаю, загоняю в темный угол сознания непонятную горечь. Эх, черт побери, солнышка бы, ощущения первых дней!
Подошли к парадному.
– Постой здесь, – сказала Нина. – Схожу узнаю.
И мне вдруг ни с того ни с сего вспомнилось, как в одном из велопутешествий, в новом быстро растущем сибирском городе – весьма современном – мы с приятелем заехали к его давнему знакомому. Тот очень обрадовался, не знал, чем уж нам угодить, побежал в магазин за водкой, но ее не было, тогда он сел на свой мотоцикл и весь город объездил – наконец достал. Мы с самого начала отговаривали его, убеждали, что не пьем, что мы ведь спортсмены, за рулем, что лучше просто так поговорить – ведь есть же о чем. Но он достал все же и, гордо сияя, выставил бутылку на стол. Мы из уважения выпили понемногу, а потом весь вечер боролись с невыносимой скукой. Нам не о чем было говорить. Это трудно объяснить, но разговор затухал, едва начавшись, ни одной темы не нашлось, которая была бы для всех нас интересной. И кончилось тем, что мы от нечего делать телевизор смотрели.
– Пойдем, – сказала Нина, выходя из дверей. – Никого нет.
И мы пошли.
Мы вошли, и на меня нахлынуло вчерашнее ощущение кочегарки.
– У вас музыка есть какая-нибудь? – спросил я, осматриваясь.
– Был проигрыватель, Оля его увезла. Магнитофон ребята приносили. Сейчас нет.
– Без музыки плохо, – сказал я. – Ты вообще-то как к музыке относишься? Любишь?
– Люблю, конечно.
– А какую?
– Разную.
Помолчали. Я смотрел на ее нежный профиль, пухлые губы, густые волосы, пытался поймать тот самый – покорный и как будто бы просящий о чем-то взгляд серых глаз, но не получалось, не получалось у нас ничего. Молодая, красивая девушка сидела рядом со мной, и мы были наконец-то одни, но я не испытывал ничего, кроме горечи.
– Слушай, – сказал я. – А в Ярославле ты… Что делаешь вечерами?
– Как что? – она с недоумением смотрела на меня. – Гуляем. На танцы ходим.
Опять помолчали.
– Но здесь мне тоже нравится, – сказала она вдруг и вздохнула. – Скоро уезжать, жалко. Я к Ростову привыкла.
– Что тебе здесь нравится? Озеро? – спросил я.
– И озеро. Сам город нравится. Кремль. С девчонками подружились. Скоро техникум кончаем – не знаю, как я без них буду.
Она вздохнула опять и отвернулась. Я не знал, о чем говорить. И вдруг поймал себя на мысли: может быть, сходить в магазин?
– Ну, а Есенин? – спросил я. – Ты много его читала? Что тебе нравится?
– Много нравится. Не помню, – сказала она как-то странно, с каким-то отчуждением глядя на меня. Словно я, учитель, спрашиваю у нее урок.
И я вдруг почувствовал, что действительно веду себя как-то не так. Но как надо?
– Может быть, чаю попьем? – в растерянности сказал я. – Схожу-ка я за конфетами, ладно?
– Да что ты, брось. У нас ведь чайника все равно нет, кипятить не в чем.
– Как это, чайника нет?
– Ну, нету и все. А комендант уехал. Мы у него берем, если захочется.
– Знаешь, я все-таки схожу, ладно? Я быстро, – сказал я. – А хочешь – вместе.
– Ну, если ты хочешь…
И мы отправились покупать конфеты и чайник. Глупо, конечно, я понимал. При чем тут чайник. Но что же делать? Посторонние какие-то мысли не давали покоя. Я теперь – опять как назло – вспомнил время, когда мне было восемнадцать. То было другое время. Мы спорили в университете на диспутах, читали свои и чужие стихи. А с каким триумфальным успехом в те годы проходили вечера поэзии! И был еще такой клуб у нас – «Клуб литературных встреч», закрытый потом… Но и чуть позже – время расцвета клуба веселых и находчивых, «КВН». Где это все теперь? Я вдруг представил, как Нина сидела бы на диспуте в Клубе литературных встреч. Если уж в музее глазки у нее разгорелись, то там… У меня сердце защемило.
«Турбина! На триста тысяч киловатт!» – вспомнил я восторженные слова Николая Алексеевича. Рассказать Нине об этом? То-то она обрадуется…
На счастье, промтоварные магазины были, несмотря на воскресенье, открыты. Но электрических чайников не было. Купили простой чайник с кипятильником.
В общежитии нас уже поджидали. Наташа, Лида, еще какая-то девушка, незнакомая мне. Чай кипятить не стали, вышли опять на улицу.
– Может быть, в книжный магазин зайдем? – спросил я.
– Зачем? – сказала Нина. – Все равно там ничего нет.
– Зайдем все же, – почему-то настаивал я.
Но книжный магазин был по случаю воскресенья закрыт.
– Знаешь, о чем я мечтаю, – сказала вдруг Нина. – Скорее бы кончить учиться, уехать куда-нибудь.
– Куда же? – спросил я.
– Да хоть куда-нибудь, – сказала она медленно, не глядя на меня, – Все равно. Жизнь посмотреть.
– А ты была где-нибудь, кроме Ярославля и вот, Ростова? – спросил я.
– На юге была, на море.
– Понравилось?
– Понравилось.
– А еще?
– Еще в Москве.
– Ну, и что ты там видела?
– Да ничего не успела. Мы с мамой по магазинам ходили.
Еще раз обошли Кремль, заглянули в столовую. Потом походили по улицам, добрели до общежития. Даже постояли на темной лестнице. С пронзительной ясностью я понял вдруг, что она и в самом прямом смысле совсем, совсем девочка. Несмотря на все эти многозначительные взгляды, курение, умение водку пить, щипки. Совсем-совсем девочка, девушка, у нее должны быть еще в полной сохранности крылья.
Постояв, вышли, и я вдруг ни с того ни с сего начал рассказывать о путешествиях – об этом и прошлых, – говорил, как это здорово, сколько видишь всего – настоящая жизнь. Ощущение свободы необыкновенное… Она очень внимательно слушала, не перебивала, а я чувствовал, что почему-то все больше и больше удаляюсь от нее – как ни печально, как ни мучительно это. Я говорил, словно пытаясь заглушить что-то, отвлечься, и у меня получалось, я видел, что и ее глаза загораются, и если я начну произносить нецензурные слова с чувством, то, может быть, она будет щипать меня – так же, как Серегу и Веньку…
Неизвестно откуда на небо вынырнула вдруг большая луна, сияла вовсю, а значит, погода налаживается и завтра…
Это было жестоко, но я с радостью уже думал о том, как завтра поеду, и уже старался не смотреть на Нину, хотя она доверчиво прижималась ко мне…
Наконец, мы простились посреди улицы – я было уже проводил ее, довел до дверей общежития, но она захотела меня проводить, и мы простились посредине.
Я побрел в гостиницу.
13
…Когда сидели в лодке, пока Серега переливал бензин из бака встречной лодки в свой (а остатки своего – больше полведра выплеснул просто в воду, – и он, и другой парень, помогавший ему, переливая бензин, держали в зубах горящие сигареты), а на коленях у нас с Ниной лежал сложенный пополам кусок полиэтилена – внутри, между двумя его мутными на просвет полостями, бегали две крылатые мошки, два маленьких ручейника, и, подчиняясь правилу геотропизма, пытаясь вырваться из мутно-прозрачной тюрьмы, они бежали все вверх, к сгибу, отчего положение их было безнадежным. Ибо спасение могло быть одним: нарушение железного правила геотропизма и поиски выхода внизу. Но жесткая генетическая программа, таким образом, поставила их в тупик и обрекла.
А еще раньше я сделал «смелый эксперимент», довольно решительно подчинившись «внутреннему голосу», сидя на 22-м километре от Ростова, привалившись спиной к березе, полный смутных желаний и мыслей, уставший от встречного ветра, недогулявший в Ростове – и в юности! – страдающий по беззащитной, якобы брошенной мною Нине, мучаясь и непонятно терзаясь, разыгрывал в воображении «как если бы остался в Ростове», и думал о своих друзьях и о том, что все мы, в сущности, очень похожи – веточки от одного ствола, одного океана рыбы, одной, в сущности, крови мы, – и о том еще, почему же это я все-таки уехал, а не остался, и почему же мы так не верим себе и не решаемся… И среди множества смутных мелодий-мыслей, в мешанине их и во мгле неосознанного предчувствия ненастной погоды, сначала была одна слабенькая мыслишка, которая незаметно, подспудно зрела, которой, кроме упомянутого, подыгрывало искусно воспоминание и о том, как дважды нехотя перевязывал рюкзак в Ростове, как после поехал сначала в обратную сторону – к Москве, как уговаривал меня Алик, а Нина-то, Нина при встрече у Кремля ведь так уступчиво, так мягко, так говоряще смотрела, а я-то, а я-то так ведь и не сказал ей, так и не сказал… Эта мысль, эта мелодийка – вернуться – сначала казалась смешной, противоестественной, нереальной, сентиментальной и жалостливой, немужественной какой-то, не волевой – но возвращалась исподволь в упомянутых воспоминаниях, присутствовала в них во всех – даже не только в воспоминаниях, а и в образе двух девушек, прошедших мимо, одна из которых совсем еще девочка, а другая сложившаяся, с очаровательной грудью – как, между прочим, у многих здесь… – и в образе встречного ветра. Родина, Родина моя, Россия… Уважение – вот что такое, наверное, культура… Уважение и преклонение перед красотой. Под березой, сидя спокойно, не крутя педали, а отдыхая, отдавшись слуху, а не генерируя шум, я и был настроен на унисон.
И то, что обратную дорогу пролетел за сорок минут вместо часа с лишним туда – по ветру теперь, а не против, – символично…
А потом – пасмурный, странно невезучий и опять какой-то символический день…
Но забуду ли я моряка Серегу и реакцию Нины на ненастье, на невезение, на водку, на Серегу?.. Но ощущение этой ненастной, этой стихийно-непонятной, имеющей тем не менее свое полноценное измерение – с амплитудой! – этой дико-противоречивой, животно-человеческой, наиреальнейшей жизни: с гонкой на лодке, с мотором «Москва-5», который, по словам Сереги, и, кажется, на самом деле сильнее всех здесь, с дождями, ветрами, выливаемым без заминки в воду бензином, с земснарядами, с которых тоже бездумно воруется масло и бензин, с щупальцами-водорослями, с блужданием в зарослях, с островом, где случайная поспешная выпивка с видом надвигающейся грозовой тучи, с внезапной косноязычной исповедью Сереги, с крупными виражами под дождем, в брызгах, со странным, непредсказуемым, непонятным поведением Нины…
Но общежитие девушек, этих неуклюжих, ранимых детей, грубых и ласковых, воспитанных случайно, страшно, с матом, с любовью и водкой, слезами, голодом человечности (а скоро – замужество, а скоро – пеленки, труды и заботы, Сереги и Веньки мужья, и – все сначала, так что ли?..)… Но Юлю-блондинку – красивую, стройную – и милую, рыжую Олю, ловивших на спор лягушонка после танцплощадки, куда Юля затащила Олю за компанию – «Музыку послушать и воздухом подышать» (и на любимого джазиста издалека посмотреть)… Но Нину, странную Нину, может быть, вовсе и не странную, впрочем, – очаровательную, оставленную, увы, мною Нину… Но Веньку, которому нужен диплом («стовариантная система!») и который не может отказаться от «шабашки», у которого мать умерла, который просил меня: «Ты, москвич, диплом можешь мне сделать?» – и в голосе было пьяное, но и детское одновременно рыдание… Но – все это стихийно-слепое, запутанное, первобытно-прекрасное…
Забуду ли? Не в этом ли суть? Не открылось ли мне именно здесь бесценное – что, как и добро, первоначально – знание?
И не в этом ли был смысл дошедшей «из центра» волны? Все мы – веточки от одного ствола, одного океана рыбы, одной крови мы… Уважение, уважение – вот что такое культура. Уважение!
Нет чужих уголков в родной стране, нет соотечественников, которые были бы тебе посторонними, нет людей на земле, которых ты имеешь право считать безразличными! Где бы ты ни был, чем бы ни занимался в жизни – столкнешься. И отзовется, все равно отзовется болью чужая боль. Красота – отражение всемирной гармонии, и если ты не видишь, не слышишь ее, значит, ты потерялся, выпал. И весь мир обойдя, не найдешь пристанища в нем, если не увидел красоты рядом. Веточки одного ствола, одного океана рыбы, одной крови мы…
Что я могу сделать для Нины? Может быть, хоть это вот – рассказать? И – помнить, конечно, помнить… Да не померкнет никогда, ни в какие смутные времена, красота твоя, моя великая, моя добрая, моя любимая Родина!