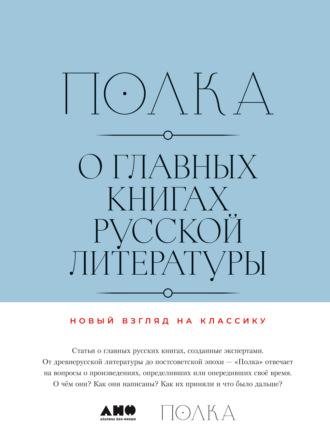
Коллектив авторов
Полка. О главных книгах русской литературы. Том II
Само возникновение Чевенгура в романе описано так: «Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь и по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут. И поэтому они меняли рабочую плоть на пищу, отчего в течение долголетия произошёл Чевенгур: в нём собралось население. С тех пор прохожие рабочие ушли, а город остался, надеясь на Бога». История эта, которая звучит как сказка, на самом деле имеет вполне реальный исторический прототип. В конце XVIII века через приволжские степи пролегала так называемая Сиротская дорога, по которой уходили на Дон беглые солдаты, крестьяне и раскольники. Историк и публицист Афанасий Щапов[309] в 1862 году писал о том, что «на пути этом многие из них селились на хлебородных землях Саратовской губернии и в конце XVlII столетия основали вновь несколько сёл…». Этих беглецов на Дон Щапов называет предшественниками русской секты бегунов.
Бегуны возникли во второй половине XVIII века после того, как правительство смягчилось к старообрядцам и разрешило им официально исповедовать их веру – но для этого нужно было «записаться в раскол», то есть официально уведомить власти о своём вероисповедании. Некоторые согласились, другие скрывали, что они раскольники, откупаясь взятками, а третьи заявили, что истинную веру сохранить таким образом невозможно и следует бежать от государства и церкви, скрываться и не иметь с ними никакого дела. Бегуны полагали, что живут в эпоху Антихриста, который скрывается под маской духовных и светских властей, и поэтому с властями недопустимы никакие контакты: нельзя платить налогов и служить в армии, нельзя получать официальные документы, поскольку они представляют собой «метку Антихриста». Спасти душу можно только «вечным странством», полностью порвав с миром, прекратив контакты с обществом и отказавшись от любых гражданских обязанностей.
Хорошо известно, что Платонов интересовался бегунами специально – в рассказе 1927 года «Иван Жох» его герой, купец-раскольник, возвращаясь домой из Польши, ночует на хуторе, где кроме него «жили тоже раскольники, только бродячего толку, которые считали, что Бог на дороге живёт и что праведную землю можно нечаянно встретить». Видимо, именно от сектантов «страннического толка» и происходит постоянное движение их потомков, героев «Чевенгура». Если в постоянном странничестве – залог спасения души, то останавливаться нельзя ни на минуту, а уж если приходится поселиться на одном месте, то приходится даже двигать дома – только бы движение продолжалось.
К истории бегунов восходит, как замечает исследователь Евгений Яблоков, и странная кличка Чепурного – Японец. Дело в том, что с бегунами связывают распространение известной народной старообрядческой легенды о Беловодье – райской земле на востоке, где нет властей и угнетения, никого не забирают в солдаты и отсутствуют все другие повинности, а люди живут свободно, по своей вере, богато и счастливо. Ещё Беловодье называют Опоньским царством: впервые это название Беловодья возникает в рукописи XVIII века «Путешествие инока Марка в Опоньское царство» – где герой обнаруживает 179 православных церквей (из них 40 – русских). Путь в Опоньское царство описан так, что не остаётся сомнений в его географическом положении: двигаться следует от Москвы всё время к востоку, потом в Сибирь до Алтая («снеговых гор»), от которых «есть проход Китайским государством» – сорок четыре дня ходу через Гоби, – и в Опоньское царство, стоящее средь «моря-океана» на 70 островах. Вот и Дванов в романе размышляет о «дальних, недостижимых краях, прозванных влекущими певучими именами – Индия, Океания, Таити и острова Уединения, что стоят среди синего океана, опираясь на его коралловое дно». Чепурный – «японец», то есть житель Опоньского царства бегунов, некоторые черты которого унаследованы платоновским Чевенгуром.
Почему время в романе течёт так неравномерно, а события путаются?
Исследователь Евгений Яблоков замечает, что, по читательскому ощущению, действие романа занимает несколько месяцев – однако, когда герои попадают в Чевенгур, становится ясно, что на самом деле «во внешнем мире» прошло семь или восемь лет. Дело в том, что в романе Платонова не одно время, а целых три. Первое из них – это время природы, второе – человеческое время, а третье – время истории. Природное время появляется в самом начале романа: Захар Павлович, который в качестве платы за квартиру «звонит ночью часы» (то есть звонит каждый час в колокол вместо церковного сторожа), мастерит к тому же свои, деревянные часы, которые должны «ходить без завода – от вращения Земли». Исследовательница Элеонора Рудаковская пишет о том, что основное свойство природного времени – равномерность. Равномерность, однако, как известно из физики, неотличима от неподвижности: согласно первому закону Ньютона, «всякое тело продолжает оставаться в своём состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока приложенные силы не заставят его изменить это состояние». Поэтому природному времени свойственна ещё и длительность, бесконечность. Природу, пейзаж Платонов всегда описывает глаголами несовершенного вида: «река умирала», «трясины существовали», «воздух не шевелился»; наконец, «степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шёл плавный затяжной скат, которого ещё ни один конь не превозмог до конца». В природное время герои романа попадают, когда останавливаются, прекращают движение. Так, для попавших в Чевенгур героев наступает «свежий солнечный день, долгий, как все дни в Чевенгуре». В этом времени герои испытывают в основном тоску – как Дванов, который «монотонно» чувствует, «как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда». Неизменность, однородность природного времени видна и из того, что герои часто видят нечто будто бы знакомое, но не могут вспомнить, когда видели то же самое в прошлый раз: «Всё это уже случалось с ним, но очень давно, и где – нельзя вспомнить…»
Эта неизменность, равномерность затрагивает и второе время романа – человеческое, субъективное время героев. Платонов, как отмечает Рудаковская, часто передаёт это словосочетанием «всю жизнь»: «всю жизнь ручьём шли дети», «всю жизнь Фирс шёл по воде или по сырой земле», «всю жизнь грелись и освещались не солнцем, а луной». Сливаясь с природным, человеческое время становится неощутимым, и жизнь проходит незаметно. Однако герои стремятся почувствовать его, пережить по-настоящему – и это становится возможно, если соотнести своё личное время с историческим: за последнее в романе отвечают «революция» и «коммунизм», которые разрушают однородность времени, становясь точками отсчёта, позволяющими ощутить его движение. «Мы с тобой увидимся теперь после революции», – говорит Дванов Соне. А до революции «и небо, и все пространства были иными», а «Копёнкин ничего внимательно не ощущал».
С объявлением в Чевенгуре нового летоисчисления конфликт между историческим и природным временем становится явным – но тут легко запутаться. Несмотря на то что «Чепурный… прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма» и «всей мировой истории» настал конец, чевенгурцы на самом деле хотят остановить природное, а не историческое время. Эта его остановка должна дать героям возможность построить новую жизнь и обрести бессмертие в буквальном смысле слова. Они, с одной стороны, пытаются остановить время, а с другой – приблизить к себе будущее. Но это приводит к тому, что будущее и прошлое накладываются друг на друга, становятся неразличимы: в Чевенгуре «наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм». Тут снова стоит процитировать «Симфонию сознания» и вспомнить, что Платонов на самом деле имеет в виду под «историей»: «Человечество в истории – это всежаждущее существо, это беззаконная душа со всемогущими, неустанными, пламенными крыльями. ‹…› История – будущая природа, тропа в неведомое». Историческое время у Платонова – это настоящее, устремлённое в будущее, – вершина человеческого развития.
Именно это состояние – не история в привычном нам понимании, а историческое время как свободное и живое, по выражению исследовательницы Анджелы Ливингстон, «создание событий», казалось бы, и наступает в Чевенгуре. Его жители лихорадочно строят дамбы, ремонтируют дома, пишут картины. Дванов так поглощён делом, что худеет от недоедания. Но что такое «поглощён делом» или «лихорадочно» в категориях времени? Это субъективное, ощущаемое время, которое проходит необыкновенно быстро, «длительное мгновение» – результат наложения будущего и прошлого приводит к возникновению «длящегося настоящего», то есть утопии. Видимо, именно поэтому время в романе от начала к концу замедляется – но не просто замедляется, а как будто накапливается, чтобы всей этой накопившейся огромной длительностью произойти за три летних месяца: «Шло чевенгурское лето, время безнадёжно уходило обратно жизни, но Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остановился среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий и жил в покое своей радости…»
Однако во внешнем мире продолжается природное время, которое удалось остановить только в Чевенгуре. Оно надвигается на Чевенгур вместе с осенью и наконец поглощает мгновенным броском безликой конницы – и сам Чевенгур с его коммунизмом, и разницу в скорости течения времени.
Таким образом, время в «Чевенгуре» не одно, и течёт оно поэтому нелинейно: линия природного времени то совпадает, то расходится с линиями внутреннего, субъективного времени, которое для разных персонажей тоже течёт с разной скоростью. Кроме того, и само главное, природное время замедляется к концу романа, а затем происходит – примерно как взрыв в замедленной съёмке – на полутора десятках страниц описания чевенгурского лета – и снова возвращается к своему равномерному, неостановимому течению, когда чевенгурская утопия погибает, стёртая с лица земли пришедшей из степи армией без опознавательных знаков.
Каковы философские истоки преобразования мира, о котором пишет Платонов?
Можно сказать, что повлиявшие на Платонова мыслители в разных формах и на разных направлениях развивали одну большую идею – а именно идею «всеобщего преобразования». У Александра Богданова, главного русского «инакомыслящего марксиста» эпохи, эта идея приняла вид учения о тектологии – практической науке, целью которой являлось приведение человека и мира в идеальное гармоническое состояние. Всеобщее преобразование мира лежит и в основе философии «общего дела» Николая Фёдорова, который полагал философию практической наукой, а главной проблемой, которая перед этой практической наукой стоит, – проблему смерти: смерть должна быть отменена, а мёртвые – воскрешены, причём научным, даже технологическим путём, а не при помощи религиозного делания. Источник смерти и страдания Фёдоров отождествлял с природным началом – из чего следовала необходимость подчинить природу, преодолеть её и таким образом достичь вечной жизни. Эрнст Мах, большим почитателем которого был Александр Богданов, вместе ещё с одним немецким ученым, Вильгельмом Оствальдом, развивал комплекс идей, который впоследствии стали обозначать термином «энергетическая концепция»: они полагали, что все виды энергии в мире, включая психическую, могут переходить друг в друга. Эта мысль – одна из основополагающих в системе представлений Константина Циолковского и до определённой степени родственной ей ноосферной теории Вернадского. Представление о взаимном перетекании, об эквивалентности всех видов энергии как раз и позволяет говорить о возможности всеобщего преобразования, поскольку в рамках этой идеи человеческая воля буквально, напрямую обладает той же способностью к преобразованию материального мира, что энергия солнца, рек и мускулов. Как связанные с той же идеей можно воспринимать и ранние работы крупнейшего русского филолога Григория Винокура, в начале 1920-х публиковавшегося в журнале «ЛЕФ», близком к русскому футуризму. В первом номере журнала за 1923 год Винокур опубликовал статью «Футуристы – строители языка», в которой он, в частности, пишет: «Культура языка – это не только организация… но вместе с тем и изобретение. ‹…› Надо признать, наконец, что в нашей воле – не только учиться языку, но и делать язык, не только организовывать элементы языка, но и изобретать новые связи между этими элементами». Платонов пишет об идеях Винокура как о «новом классовом подходе к языку», имея в виду, что его идеи предлагают теоретическую основу для сознательного конструирования языка, а значит – и социальной реальности. И здесь обнаруживается близость Платонова к русскому футуризму: Винокур пишет об изобретении, создании нового языка – то есть о том, чем были заняты футуристы, – как о способе изменения общественного сознания, что, в свою очередь, ведёт к социальным переменам. Таким образом, то общее, что есть у Платонова с русским футуризмом, тоже может быть описано как «всеобщее преобразование», основанное на идее взаимной эквивалентности всех видов энергии: в данном случае энергия языка служит преобразованию не собственно языковой, но общественной реальности.
Откуда взялись название «Чевенгур» и фамилии платоновских героев?
Относительно названия романа существует множество самых разных версий. По всей видимости, первую выдвинул Михаил Геллер в 1982 году в книге «Андрей Платонов в поисках счастья». Геллер уверенно пишет, что название романа составлено из двух слов: «чева» (ошмёток, обносок лаптя) – и «гур» (шум, рёв, рык), приводя в подтверждение своей версии тот факт, что у Василия Каменского[310] в поэме «Стенька Разин» (1915) «ядрёный лапоть», который «пошёл шататься по берегам», становится символом крестьянского бунта. Не так давно похожую версию предложил исследователь Михаил Михеев, который возводит название к немного изменённому по сравнению с Геллером ряду: «гур» (индюк, болтать), «чева» (лапоть), отмечая также, что последовательность звуков ч-в-н отсылает читателя к слову «чванный».
Есть и более экзотические версии. Так, Елена Толстая-Сегал полагает, что «Чевенгур» – своеобразный двойник-отражение Петербурга «в тюркском, азиатском звуковом материале». Более приземлённое толкование предлагает исследователь Олег Ласунский. Он отмечает, что в Воронежской области вообще часто встречаются географические названия, включающие в себя буквы ч, г и р: Чагари, Кучугуры, Чигорак. Однако единственный подходящий по звучанию уездный центр – Богучар, который, по мнению Ласунского, и послужил источником названия. Это косвенно подтверждается тем, что находится он на реке Богучарка – а через город в романе протекает «уездная речка» Чевенгурка.
По версии исследователя Олега Алейникова, «Чевенгур» – аббревиатура, которую он расшифровывает как Чрезвычайный военный непобедимый (независимый) героический укреплённый район, предлагая считать это своего рода шуткой Платонова. Конкретную расшифровку, конечно, установить невозможно, однако само предположение о том, что мы имеем дело с сокращением, выглядит очень правдоподобно: лингвистический ландшафт Советской России в начале двадцатых годов был заполнен самыми невообразимыми сокращениями. Прозаик и критик Василий Яновский вспоминает, что Георгий Иванов и Борис Поплавский любили рассказывать – уже в эмиграции – анекдот о поэте Николае Оцупе[311]. Будто бы Александр Блок спросил как-то, откуда такая странная фамилия, – на что ему было сообщено, что это вовсе не фамилия, а сокращение от «Общества целесообразного употребления пищи», – и версия эта никаких вопросов у Блока не вызвала.
Что касается фамилий героев, то среди них есть говорящие, с двойным смыслом, а есть и просто фамилии, только немного странные. К первым относятся в первую очередь, конечно, фамилии Дванов и Копёнкин. Фамилия Александра Дванова, главного героя романа, прямо отсылает читателя к двойственности, мотиву двойничества. На это есть несколько причин: главная из них, видимо, в том, что Дванов в каком-то смысле отчасти сам Платонов. На это, в частности, указывает то, что Дванов – сын рыбака (напомним, что один из двух опубликованных фрагментов «Чевенгура» имел название «Потомок рыбака»), а сам Платонов в одной из автобиографических заметок пишет о себе так: «Я был сыном рыбака. ‹…› Потом стал писателем, потом инженером…»
Фамилия Копёнкина, происходящая от слова «копёнка» (то есть небольшая копна), во-первых, как указывают многие исследователи, связана с тем, что он воплощает в романе хаотичное, беспорядочное начало, поскольку «действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня… считал общую жизнь умней своей головы». Во-вторых – и это, возможно, даже важнее, фамилия его указывает на копьё: Копёнкин имеет несомненные черты Дон Кихота, а его лошадь, Пролетарская Сила, так и вовсе почти тёзка с Росинантом – имя последнего означает по-испански рабочую лошадь, тяжеловоза, а в переносном значении – грубого, необразованного человека. Есть и более простые случаи. Так, заведующий городским утилем в романе носит фамилию Фуфаев, фонетически напоминающую о словах «фуфайка» и «фуфло», а фамилия бандита – Грошиков, скорее всего, потому, что он «ни в грош не ставит» человеческую жизнь.
Что за отношения у Платонова были с паровозами?
Машинисты, паровозы и вообще железная дорога присутствуют не только в «Чевенгуре», но и вообще почти во всех значимых произведениях писателя. Тут сложно переплетается реальное и символическое.
Отец писателя, Платон Климентов, работал машинистом паровоза и слесарем в Воронежских железнодорожных мастерских (за что ему дважды было присвоено звание Героя Труда). Сам Платонов ещё мальчишкой работал помощником машиниста на локомобиле и учился на электротехническом отделении в Воронежском техническом железнодорожном училище – и даже первый рассказ его был опубликован в ведомственном журнале «Железный путь». Эти биографические обстоятельства, воспроизведённые в «Чевенгуре» (Захар Павлович работает в железнодорожном депо и туда же идёт учиться Саша Дванов), скорее всего, и определили близкие отношения Платонова с железной дорогой.
На символическом же уровне паровоз чрезвычайно близко находится к «локомотиву», от которого, в свою очередь, рукой подать до революции – поскольку в работе «Борьба классов во Франции с 1848 по 1850 год», посвящённой истории поражения французской революции 1848 года, Карл Маркс писал о том, что «революции – локомотивы истории». Эта ставшая расхожей фраза – исключительное порождение XIX века, когда только возникавшие в Европе и США железные дороги (первая из них была построена Джорджем Стефенсоном в Британии в 1825 году) воспринимались как главный символ прогресса вообще – то есть линейного движения вперёд, к лучшему будущему. В революционной и послереволюционной России железная дорога имела совершенно тот же символический смысл: она олицетворяла собой прогресс и неостановимое, скоростное движение вперёд. Паровоз фигурирует на огромном количестве плакатов – причём на некоторых из них собственно железная дорога переходит в восходящие графики экономических показателей: роста выработки угля или производства стали. Наконец, одним из самых популярных революционных гимнов становится песня «Наш паровоз», предположительно написанная комсомольцами Киевских главных железнодорожных мастерских (конкретный автор слов неизвестен), впервые исполненная на демонстрации 7 ноября 1922 года:
Наш паровоз, вперёд лети –
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути –
В руках у нас винтовка.
Как пишет Платонов, «слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции».
Но и это ещё не всё. На Платонова, особенно в начале – середине 1920-х годов, сильное влияние оказали Александр Богданов, считавший организацию и машинизацию общества, и в частности рабочего времени, главным средством переустройства мира, а также поэт и теоретик Алексей Гастев, родоначальник так называемой НОТ – дисциплины о «научной организации труда». Как отмечает исследовательница Мария Левченко, в идеологии созданного Богдановым Пролеткульта «машина воспринимается как универсальное орудие преобразования мира. Она преодолевает историю, устремлена в будущее, в высь, в пространство. Возникает пролеткультовский принцип человека-машины и, соответственно с этим, положение о том, что любовь к машине выше как к более совершенному устройству, чем любовь к отдельному человеку».
Как Платонов добивается того, что его язык не похож ни на чей другой?
Для начала нужно сказать, что платоновский язык в большой степени напоминает язык крестьян – это очевидно из крестьянских писем двадцатых годов, отправленных в ЦК или в газеты. Вот, например, как пишет в 1926 году крестьянин С. Р. Наймушин Сталину о необходимости усилить борьбу с религией: «Долой обман… у нас ещё не кончен нравственный переворот старого обычая, а именно: существует ещё религиозный дурман, который играл и играет на струнку капитализма». А вот комсомольцы небольшой деревушки Лалакино Нижегородской области объясняют в 1926 году провал своих попыток наладить кооперацию:
Для красной коперацыи наступила страшно трудная епоха. Граждане, тёмный полчища кулаков и буржуазной контрриволюцеи ломают неприступную гору нашей кооперативы. Черьви и гады калаки буржуазные елементы клюют нашо пролетарское тело, как злые коршуны курицу.
Но это, конечно, не отменяет удивительного своеобразия платоновского языка. Как устроено это своеобразие, из чего состоит его непохожесть?
Один из самых частых платоновских приёмов – нарушение сочетаемости: «Дванов встал и пошёл на отвыкших ногах»; «Копёнкин махнул на них отрекающейся рукой»; «Захар Павлович сказал стесняющимся голосом предупредительные слова». В первых двух случаях Платонов как бы приписывает отдельным органам и частям человеческого тела признак по действию – то есть возможность автономно совершать те действия, которые совершает человек целиком: это человек может отвыкнуть или отречься. В третьем случае такое действие – стесняться – приписывается уже даже не органу, а голосу: оказывается, что рука, ноги или голос – тоже в каком-то смысле отдельные «люди» или по крайней мере «действующие лица». Иногда Платонов идёт ещё дальше: «Ночь тихо шумела молодыми листьями, воздухом и скребущимся ростом трав в почве»; «Строй звёзд нёс свой стерегущий труд над ним»; «С воодушевлённой нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник». Здесь признак по действию приписывается уже не предмету, а состоянию или свойству: «скребущийся рост», «стерегущий труд». В результате, как отмечает исследователь Владимир Заика, описываемое свойство отчуждается, становится отдельным, самостоятельной сущностью.
В других случаях признак вещи или явления описывает их причины: «Хаты стояли, полные бездетной тишины» (причиной тишины является отсутствие детей); «Над всем Чевенгуром находилась беззащитная печаль» (причиной печали является беззащитность). Используемый Платоновым приём как бы сворачивает причинную связь, которая иначе требовала бы более развёрнутого пояснения, – и это одна из причин, по которой платоновский текст трудно читать: мы должны сами обратно развернуть свёрнутое, чтобы понять сказанное. Нарушением сочетаемости Платонов добивается того, что Виктор Шкловский называл остранением. Усилие, которое требуется от нас, позволяет преодолеть автоматизм восприятия: предмет или действие описываются не так, как их принято описывать, а так, как если бы писатель – а вместе с ним и мы – видел их впервые в жизни. Знакомое в них предстоит ещё разглядеть, отделить от незнакомого. И это позволяет нам увидеть, что знакомого в «знакомом» гораздо меньше, чем нам казалось. А незнакомого – гораздо больше.



