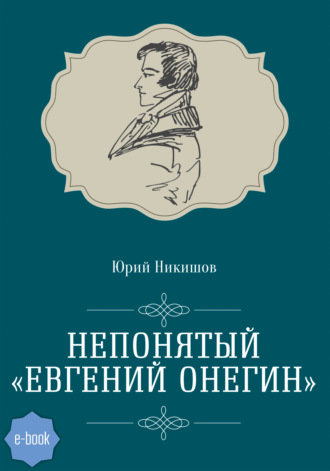
Юрий Никишов
Непонятый «Евгений Онегин»
Образ автора
Чтобы углубить наше первоначальное знакомство с пушкинским героем, надо воспользоваться случаем: у него есть очень интересный для нас приятель, который умеет ему в душу заглядывать.
Образ автора, даже по косвенным признакам, можно усмотреть в любом произведении, но немало таких, где автор представлен непосредственно. «Онегин» начинается строфой, где содержится внутренний монолог героя. А уже вторая строфа делает ясным, что перед читателем рассказываемое произведение. Мы увидели героя изнутри, продолжаем смотреть на него взглядом извне. Но тут же ракурс восприятия изменяется принципиально:
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель…
С кем же и нам выпадает очередь знакомиться? После первой строфы еще не ясно, о ком речь. Тут может быть и некий вымышленный повеса, о нем намерен что-то рассказать анонимный незримый эпический писатель, кому совсем не обязательно представать обозначенным лицом, который все про все знает о своем герое, не удостаивая нас сообщением, откуда взялось это знание. Но тут автор сразу открывает свое лицо: никакой это не аноним, а уже известный читателю поэт. Демонстративно выставляются на вид автобиографические детали: звучит обращение к «друзьям Людмилы и Руслана», дается намек на ссылку и прямым текстом, и косвенным (примечанием «Писано в Бессарабии»). Запев решителен и разве не достоин того, чтобы стать определяющим в понимании образа автора в романе?
Огромное значение авторского начала в «Евгении Онегине» первым отметил Белинский: ««Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы» (VII, 431)[37]. Это классическая формула и по содержательности, и по изяществу. Если личностный опыт в широком значении слова чрезвычайно существен в художественном творчестве, то в «Евгении Онегине» личностное начало пронизывает буквально каждую строку. Автобиографическая основа образа автора отмечалась многократно; ограничусь одной отсылкой: «Мы… нигде — ни в каком-нибудь отдельном пушкинском стихотворении, ни даже во всех них, вместе взятых, — не узнаем о Пушкине так много житейских подробностей, даже почти интимных обстоятельств, как именно в «Онегине»»[38].
Но нередко акценты расставляются по-другому. В. В. Набоков выявляет автобиографический подтекст многих строф, но конечный вывод склоняет в иную сторону: «…В романе стилизованный, а значит вымышленный Пушкин…»[39]. Категоричен В. С. Баевский: «Убедительно обоснованно мнение, что Автор, от чьего лица ведется повествование, написаны лирические и автобиографические отступления, нетождествен Пушкину, то приближается к нему, то удаляется от него. Мы можем сказать, что Пушкин — прототип образа Автора, созданного в романе. Как и обычно, в чем-то персонаж совпадает со своим прототипом, в чем-то расходится с ним. Благодаря этому возникает иллюзия <?>, что в несколько условных литературных формах изображаются события, действительно имевшие место в жизни. Подвижность границы между Пушкиным и Автором делает иллюзию необыкновенно убедительной»[40]. Сходную мысль высказывает Г. Г. Красухин: для него автор в «Онегине» — «не реальный поэт Александр Сергеевич Пушкин, а его романный образ»[41].
При внешней убедительности такой позиции она не решает проблему, а лишь затуманивает ее, поскольку ограничивается констатацией и не дает ответа на коренной вопрос: какова же связь между личностью А. С. Пушкина и его романным образом? Излишне подчеркивать нетождественность поэта и образа: это само собой разумеется; тождества нет в «Онегине», но его просто не может быть ни в одном художественном произведении; тождество исключает один только перевод из материала жизни в формы искусства, ибо одно дело — явление жизни, совсем другое — виртуальное подобие его; образ автора тут в общей структуре творчества ничуть не исключение. Художественный образ по самой своей сути не может быть «равным», «тождественным» живому человеку. След души поэта остается в его «заветной лире», где сохраняется на все время его востребованности (для гениев оно может быть весьма протяженным), но плоть бессмертием не обладает. Можно различать степень условности, которой обладают вымышленный образ, или образ на основе прототипа, или «документальный» образ на реальной био, или автобиографической основе, — тем не менее любой образ несет на себе печать и условности, и обобщенности, и того или иного несоответствия «живому» прототипу. При этом условность образа — не препятствие правде образа. Зато крен на условную сторону образа порождает определенную неловкость: Пушкин ли автор романа — или он пишет его в соавторстве с неким Автором (который В. С. Баевским, и не им одним, обозначается как имя собственное). На деле Пушкин — единоличный автор своего произведения, хотя и создает его действительно с соавтором — самой жизнью.
«Документальный» образ обладает лишь тем отличием от вымышленного, что сам «расшифровывает» свое реальное жизненное содержание. Возникает возможность увлекательных сопоставлений. В нашем случае перед нами жизненная и творческая биография Пушкина, известная по широкому кругу источников, — и ее жe творческая трансформация, выполненная самим поэтом на страницах его любимого произведения.
Не возникает проблемы атрибуции биографического материала, когда встречаются прямые, хорошо известные автобиографические факты. С опорой на условность образа автора просто невозможно читать многие фрагменты романа — не таким же, к примеру, варварским способом: «Друзья Людмилы и Руслана <поэмы Пушкина>! / С героем <теперь уже> моего <а не пушкинского> романа / Без предисловий, сей же час, / Позвольте познакомить вас…» Или: «Старик Державин нас <т. е. не А. С. Пушкина и его музу, а поэта и вместе с ним меня> заметил / И, в гроб сходя, благословил». Расцветавшие в садах Лицея известны поименно; какого-то безымянного «Автора» среди них не значится. Совершенно однозначно, что и в этих, и многих других подобных случаях мы имеем дело с достоверными фактами пушкинской биографии. Стало быть, заключение: Пушкин (реальный автор «Евгения Онегина») говорит от имени своего «я» и в тексте романа — вполне оправдан, поскольку подтверждается многими фактами.
Но с позиции автобиографизма автора невозможно воспринимать, к примеру, такую зарисовку в совместном портрете автора и героя:
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас…
Ну и как: похоже ли это изображение на реальный облик двадцатилетнего Пушкина, Сверчка из «Арзамаса», участника заседаний «Зеленой лампы», завзятого театрала, заводилу дружеских компаний, наставлявшего друга (в том же 1819 году, которым поэт датирует и описание романа): «Будь молод в юности твоей!» («Стансы Толстому»)? Решительно не похоже.
Подобные расхождения и стимулируют активно развиваемую концепцию, что хотя в образе автора Пушкин воспользовался отдельными фактами своей биографии, но в целом создает условный, обобщенный образ поэта-рассказчика. Между тем приведенный автопортрет стопроцентно достоверен. Только перед нами не Пушкин 1819 года, каким он вроде бы должен был предстать по хронологии романа, а Пушкин 1823 года, каким он начинал писать роман. Рассказчик получает обновляемую возможность писать о том, что его волнует здесь и сейчас. Если мы понимаем причину и повод отступления автора от биографических фактов или, как здесь, сдвиг реальных фактов по шкале времени, то и нарушения достоверности сохраняют биографическое значение! Тут потребно сопоставление изображения с объективными данными, которые предоставит биография автора за рамками его произведения.
Соответствие изображаемого реальному неизбежно подвижно. Но даже изображенное не застывает подобно монументу, а меняет оттенки в зависимости от контекста, в который оно попадает в восприятии читателя.
Человеческие свойства образа автора оказывают самое непосредственное влияние на содержательную сторону произведения. В романе в стихах автор выступает и как информатор и наблюдатель, но он включен и в сюжетное действие как приятель заглавного героя. Даже больше: сюжет романа каким-то образом соотнесен с биографией поэта! Разлука автора с героем получает двойную мотивировку: герой едет в деревню к умирающему дяде (что с историческим временем не связано) — поэт отправлен в необъявленную ссылку на юг (6 или 9 мая 1820 года[42]). А в путешествии своем Онегин навестит поэта в Одессе, причем опять перед разлукой с двойной мотивировкой:
Онегин, очень охлажденный
И тем, что видел, насыщенный,
Пустился к невским берегам.
А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских,
В далекий северный уезд…
Но поэт не окован связкой сюжета и своей биографии, к внесюжетному материалу он обращается с полной свободой, избирательно, по мере надобности.
На страницах «Евгения Онегина» автопортрет раздваивается, как и в жизни: перед нами человек — и поэт. Поскольку автор в романе выступает как персонаж, наряду с другими персонажами, поскольку он же является творцом своего произведения, обозначая свое непосредственное присутствие как художник и вновь исчезая из поля зрения читателя, размывая контур лица, можно говорить о лирическом (биографическом) авторе-персонаже в «Онегине», об эпическом незримом и вездесущем повествователе и о переходных лиро-эпических формах выражения авторского присутствия, с совмещением личностных и условно-обобщенных черт. Вычленяясь и обосабливаясь, авторское «я» иногда остается повествовательной условностью, чаще же обретает личностные черты, и перед нами живой образ, поэт и человек. Многофункциональность этого образа несколько притеняет человеческое содержание образа, тем не менее оно вызывает особый интерес. Здесь тоже особую важность сохраняет соотношение автобиографического и условного. Можно вычленить личностное, автобиографическое в образе автора, обособив эти черты от условно-обобщенных, если воспользоваться тем же критерием, каким обычно поверяется правдивость художественного воспроизведения жизни, — критерием практики.
Роман в стихах выпукло показывает нам не только человеческие пушкинские обыкновения, но и формирование творческих принципов. В романе много рассуждений на литературные темы. Они носят характер поэтических деклараций, программны и в силу этого в значении своем далеко выходят за рамки личного опыта. Однако заслуживает внимания, что эти декларации обычно оформлены подчеркнуто личностно, чаще всего именно от лица биографического «я»: «Описывать мое же дело»; «…но я молчу; / Два века ссорить не хочу»; «Но я бороться не намерен / Ни с ним покамест, ни с тобой…»; «Иные нужны мне картины…»; «Таков ли был я, расцветая?» и т. п. Вот еще признание: бывает, что сильное чувство трудно высказать («А я, любя, был глуп и нем»). Даже когда встречается множественная форма «мы», авторское присутствие ощущается весьма резко: «Как будто нам уж невозможно / Писать поэмы о другом…»; «А нынче все умы в тумане, / Мораль на нас наводит сон…» и т. п. В силу данного обстоятельства самые широкие поэтические декларации не теряют личного значения и тем самым выступают в качестве штрихов к характеристике самого поэта, в качестве формы лепки образа автора.
Как быстро усложняется поле нашего внимания! Только возник образ героя — рядом понадобился образ приятеля-автора. И он не прост! Что делать! Хочется понять то, что изображается; то, что изображается, тянет за собой интерес к тому, как оно изображается. Значит, надо вникать и в особенности повествования. Дальше в лес — больше дров!
Казалось бы, что тут особенного: в образе автора соединились черты поэта и человека. Так было и в жизни Пушкина! Между тем в тексте «Онегина» это сочетание приводит к серьезному противоречию.
Можно ли сказать обо всем сразу? Онегин — «добрый мой приятель», «спутник странный». Вот примеры таких универсальных определений. Но слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.
С кем подружился автор? С одетым как dandy? С тем, кто свету «мил»?
Пушкин представляет нам героя своим приятелем, но сближение их произошло не тогда, когда Онегин развлекался в свете, а когда «свергнул» его бремя: «С ним подружился я в то время». Первый раз герой представлен читателю не только порвавшим со светом, но и покидающим столицу.
Впрочем, тотчас мы узнаём и о детстве, и о начальной юности Онегина, но ретроспективно. Только ведь тут у героя совсем другие интересы. Хорошо автору — эпическому анониму: что есть, он то и изображает. А у нас — человек с темпераментом и страстями.
Получается, автору нужно подстраиваться под героя? Но еще лучше, если у автора и героя и очарование светской жизнью, и разочарование в ней совпадают. Тогда очарование дебютом предстает извинительным, а разочарование — поводом для сближения и симпатии.
Но опять нехорошо: нельзя сразу объявлять о грядущей метаморфозе (что означало бы зачеркнуть интерес к половине главы). Однако и нынешняя композиция приводит к тому, что в восприятии многих читателей (исследователей) Онегин не только был, но по интересам и остается светским человеком.
«Евгений Онегин» — книга не для одноразового прочтения.
Реальное и виртуальное
Многофункциональность образа автора создает затруднения в вычленении и обособлении функций, которые выпадают на его долю: они же не выстраиваются в линию, а даны сразу в спутанном клубке. И все-таки выделим главное: образ автора соединяет два мира, реальный — и условный, изображаемый, придуманный, виртуальный.
С. Г. Бочаров отметил «сдвоенный мир» пушкинского творения, в котором парадоксально сходятся разноплановые явления — Романа и Жизни: «действительность, в которой встречаются автор, герой и читатель, — …гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с миром романа; исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью»[43]. Автор объявляет желание рассказать нам о некоем Онегине, но сам тут же является с узнаваемыми чертами биографии, а своего знакомца представляет читателю добрым приятелем. В конце первой главы поэт описывает свои прогулки с героем по невской набережной в питерские белые ночи. Тут смещения демонстративны: либо «живой» А. С. Пушкин сам становится литературным героем, либо литературный герой перемещается в реальное время и пространство.
Так кто же Онегин? Приятель поэта в жизни — или герой литературного произведения, романа? Конечно, как вариант, пишутся и произведения о реальных героях жизни, но перед нами вымышленный герой, даже не имевший единичного прототипа, однако представлен он как герой жизни.
Это не единственный случай, казалось бы, невозможного сочетания, есть и другие, не менее красноречивые:
Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья…
Снова такой же вопрос: где происходило свидание: в романе — или в далекой стороне (т. е. в жизни)?
Так — с перемещениями героев из литературной сферы в жизнь и обратно. Но точно так строятся и повествовательные картины. Вот начало главы пятой:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна…
Что увидела, далее перечисляется. Тут полная иллюзия конкретности, включая своеобразие погодных условий «того года».
Картина утеплена присутствием героини. Автор и тут принимает эстафету от героини и раздвигает рамки изображения, которые сковывал бы взгляд одного человека, к тому же из окна. Набрасывается ставшая хрестоматийной картинка зимы, опять-таки с поглощающим впечатлением, что рисуется пейзажно-жанровый этюд с натуры. И снова перемена ракурса:
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Мы погрузились в атмосферу жизни, а поэт снова перемещает нас в литературную сферу, где сочиняется, а следом комментируется эксперимент на ту пору новаторского литературного описания.
Вот несколько иной случай смещения виртуального в реальный мир. От Ольги повествование переходит к ее сестре, которую звали Татьяна. «Пояснений этот факт, казалось бы, не требует. Так ее родители крестили. Но Автор добавляет: «Впервые именем таким / Страницы нежные романа / Мы своевольно освятим…». Значит, не родители при рождении назвали, а он, Автор?!! <…> Происходит в высшей степени оригинальное, подобное зигзагу движение с уровня романа — на уровень Автора, уже не рассказчика, а Демиурга, — и вновь на уровень романа»[44]. Со снисходительной улыбкой причислим эту деталь к числу «противоречий», которые автор не хочет исправлять. Хотя какое тут противоречие: родители новорожденную назвали, а выросшую девушку поэт сделал героиней повествования, впервые для себя с таким именем. Но, если угодно, можно шутливо и Пушкина посчитать духовным отцом Татьяны. (Получается — о том же, но с подходом с другой стороны).
Для Пушкина Роман и Жизнь — единый предмет, лишь представляемый то одной, то другой гранью. В названных случаях обнажение обеих граней особенно явственно, однако сдвоенный и совмещенный мир «Евгения Онегина» в отдельных эпизодах демонстрируется, а фактически определяет саму манеру повествования. Видимо, на первых порах поэта и увлекла сама нарочитая легкость перехода явлений жизни на страницы произведения, да еще и создаваемого в стихах.
Эту особенность художественного стиля Пушкина нельзя игнорировать. Само собой разумеется, что Онегин — герой пушкинского романа, да подается-то он как приятель поэта. Это два разных ракурса восприятия, но художник совместил одно с другим. Совмещение разнородного материала (виртуального и принадлежащего реальной жизни) рискованно: каждый исходный источник тянет за собой свои природные признаки. Пушкинский персонаж сетовал: «В одну телегу впрячь неможно / Коня и трепетную лань». У поэта и такая странная парочка (реальность и воображение) везет дружно.
Исследователю повторить такое совмещение чрезвычайно трудно, но терять его из виду никак нельзя. В пушкиноведении чаще предпочитается какой-либо один взгляд.
Но если автор все-таки реален, а его герои виртуальны, сотворены им, то автор (не скрывая, а обнажая это обстоятельство) строит свои отношения с героями как с живыми лицами. Эту особенность пушкинского изображения хорошо выделил Я. С. Билинкис: «…У персонажей «Евгения Онегина» складывается уже собственная судьба и именно как таковая самому создателю их она не может быть наперед и вполне доступна. Пушкин… словно бы настаивает на том, что многое в его героях, им же на наших глазах сотворяемых, ему не открыто, ибо, сотворенные, они обретают реальность, подобную реальности самой жизни, и становятся как бы независимы от автора. …Пушкин… подчеркивал подвластность созданного им мира объективному движению жизни, объемлющего и самого поэта. …Здесь — начало русского романа XIX в. с его широким,
не предусмотренным самоосуществлением жизни возникших в писательском воображении и получающих уже собственную историю персонажей»[45].
Пушкину не обязательно становиться, как в первой главе, героем (участником) сюжетного действия, он и как рассказчик обладает немалыми правами и возможностями. Поэт соблюдает правдоподобие: только он подружился с героем, как судьба их разлучает; соответственно пресекается свое изображение как участника сюжетной истории, что не мешает продолжению повествования. Будет помечена и вторая их встреча.
С. Г. Бочаров завершает свои наблюдения над смешением реального и виртуального обобщением: «Современному глазу… заметно внедрение непретворенного, «голого» факта, реальной сырой детали в «художественную ткань»; это станет потом интересной и острой проблемой искусства и его основной трудностью: «нос «реальный», а картина-то испорчена», — как скажет Чехов о том, что случится, если в лице на картине Крамского вырезать нос и вставить живой. Вторжение сырого материала из мира разрушительно для замкнутого «другого мира» картины»[46]. Заметим: в воображаемом эксперименте «сырая» деталь нарушает стилистическое целое. У Пушкина иное: заимствованное из другой сферы стилистически полностью преобразуется под общий лад в сфере принимающей. Поэт вырабатывает прием, который будет устойчив: предметы, почерпнутые из реальной жизни, легко и свободно переходят в вымышленный мир произведения и возвращаются в жизнь уже художественными деталями. Реальное не может оставаться самим собой в виртуальном мире, но оно может предстать подобым себе. Открывается возможность через посредство искусства познавать жизнь.
Многофункциональный характер образа автора накладывает на воспринимающего дополнительные обязательства: на виду то, что происходит, а важно понимать, как об этом сообщается. Необходимо учитывать, чей голос мы слышим, — личное мнение поэта, общую сентенцию, с которой он солидарен, или даже чужое суждение, подаваемое со скрытой иронией.
Приведу для пояснения ситуации прозрачный пример. Вторая строфа романа заканчивается таким двустишием о невских берегах: «Там некогда гулял и я: / Но вреден север для меня». Всего две строки — а они дают синтез контрастных стилевых манер. Первую строку пронизывает лирический пафос дорогих сердцу воспоминаний. Заключительная строка пропитана горькой иронией; по форме это мысль автора — «вреден север для меня», но по содержанию (смыслу) — не мироощущение автора: это кто-то иной (из власть предержащих) счел север вредным для поэта и отправил его в южные края — вроде как в творческую командировку. Прочитаем двустишие под одним углом зрения — увидим во второй строке принужденное согласие автора с решением властей. Такой ошибки не делается, поскольку хорошо известны и обстоятельства ссылки, и отношение к ней поэта. Поэтому я и назвал этот пример прозрачным. Но не единично встретятся случаи, когда грань между своим и чужим бывает не слишком очевидной. Маркировка «я» еще не выдает гарантий! Вот такой перед нами автор, которому нужен не просто поглощающий написанное, а размышляющий читатель. Такая позиция рискованная. Она эффектна, когда встречает читателя-сочувственника. Но среди читателей сочувственники не все. Тут и для зоилов простор.
Можно вполне отдавать себе отчет в том, что Онегин и Татьяна подобны живым людям, но они герои литературного произведения, в структуре которого им отведена и определенная функциональная роль, которая тоже заслуживает рассмотрения. «Обозначается художественное «измерение», в котором Онегин предстает уже не как петербургский денди, не как скептик или фрондер из околодекабристского круга, и даже не как воплощение эпохальных свойств «современного человека», но как герой «мистериальных» коллизий. Исторически детерминированный социально-психологический тип окружается ореолом символического смысла»[47].
По-видимому, и в данной проблеме должно видеть ее диалектическую противоречивость. Античные мифологические образы, хотя они создавались во имя объяснения конкретных, доступных даже бытовому сознанию явлений, отличаются значительной условностью и поэтому легко используются, видоизменяясь, в искусстве разных эпох. Хотелось бы лишь заметить, что «мифологичность» по-разному проявляет себя в мире автора и в мире героев. В романе смерть Ленского предсказана не только «чудным» и, как оказалось, вещим сном Татьяны, но и ее же святочным гаданием, которое в поэтическом тексте расшифровано как сулящее утраты, а в примечании еще конкретнее — как предрекающее смерть. Но вот удивительное авторское свидетельство:
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но ведь в строгом смысле Татьяна «ведает» о предстоящем страшном событии! Ладно бы, если б страшный сон и зловещее предсказание подблюдной песни никак не соотносились с жизнью. Но повод для ссоры друзей возник на ее глазах. Татьяна «до глубины души» «проникнута» онегинским «странным с Ольгой поведеньем». А ведь странное поведенье с Ольгой ровно столько же странно и по отношению к Ленскому. Можно было бы забыть про сон и гаданье при спокойном, обычном течении событий, но как не вспомнить о предзнаменовании (а Татьяна верит «и снам, и карточным гаданьям»!), когда некие странности, связанные с Ленским, волнуют «до глубины души»? Тем не менее Пушкин демонстративно убирает подобные вполне естественные мотивировки: у него Татьяна ничего не ведает, ничего не знает.
Возможно, тут тоже действует психологическая мотивировка, наподобие той, которую встречаем в «Капитанской дочке», где Гринев тоже награжден вещим сном: «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни». Тут резко отмечено: пророческим сон воспринимается задним числом, при «соображении» с ним странных обстоятельств жизни. Возможно, и Татьяна вспомнит о своем сне вслед за известием о трагедии. Возможно, и в ее скорби по убитому не только симпатия к «брату» и солидарность с сестрой, но и раскаяние, чувство вины совестливого человека, поскольку могла бы предугадать угрозу трагического события и предотвратить его — и не догадалась сделать это.
Так или иначе, но Пушкин стремится исключить мистические мотивировки из поведения своих героев. Он вполне демонстративен: «…жалок тот, кто всё предвидит…» Даже в самом загадочном из его произведений, повести «Пиковая дама», как бы просвечивает бытовое объяснение невероятных событий. В этом смысле в «Евгении Онегине» герои изображены с полной социальной и психологической определенностью.
Судьба героя являет собой предмет диалектически подвижный, который трудно заключить в раму одного понятия. Впрочем, использование одной, единой формулы применительно к Онегину возможно. Ее дал сам поэт, завершая роман: «ты, мой спутник странный…» Необходимо вникнуть в содержание этой важной формулы.
Пушкин рискнул в «Евгении Онегине» явиться перед публикой своим собственным лицом; ему не понадобились посредники, чтобы выразить свои мысли, чтобы высказать суждения о современной ему эпохе. Он обошелся без маскарада с переодеванием для этих целей в костюм вымышленного условного героя. И все-таки есть какие-то мысли, переживания, сомнения, которые выставить на публику стеснительно. Пушкин — Вяземскому, ноябрь 1825 года: «Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать — braver — суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно» (Х, 148). Вымышленным героям, Онегину в особенности, и отданы некоторые стороны авторского мировосприятия, которые поэт не мог или не хотел выразить от своего лица.
Онегину отдано удивительно много пушкинского, биографического и творческого. Вместе с тем ничуть не обман в заявлении о «разности» между героем и поэтом. В этом сила реалистического искусства. «Часть» автора, отданная герою, обрастает такими деталями и подробностями, что возникает совсем новое лицо, отнюдь не копия отдающего. Если, по библейской легенде, Ева и создана из ребра Адама, то получился не клонированный двойник Адама, а совсем иной человек. Прямая «разность» и тайная близость автора и героя — это не факт для одноразового установления, но процесс, который, я надеюсь, будет интересно наблюдать от первой до последней строки романа.
Но почему Онегин — спутник «странный»? Думается, в этой формуле закрепилась именно необычность отношения автора к герою. Онегину «не повезло». В предшествовавшей Пушкину классицистской трагедии и в современной ему романтической поэме родство автора и героя было обычным: герой представал рупором авторских идей, даже можно сказать — воплощал идеальное в самом авторе и в этом смысле был выше автора. Онегину выпало на долю другое. Отношение автора включает в себя ослабленную традицию романтического преклонения перед героем: «Сперва Онегина язык / Меня смущал…» — но в мягкой, преходящей форме: «…но я привык / К его язвительному спору…» В существе же своем это отношения равных, с оттенком превосходства автора над героем. Об этом писали уже в XIX веке: Пушкин «вложил в Онегина часть самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговеет перед изображением, а напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически»[48]. Это подтверждает современник: «…Автор в романе Пушкина — положительная параллель к Онегину, то, чем тот мог бы, но не сумел стать. Именно этого своего героя Пушкин и приводит к декабризму, а не Онегина»[49].
Что же получается: поэт представляет героя своим «добрым приятелем» и систематически напоминает читателю об этом, а сам показывает приятеля в не очень выгодном для него свете? Светские шалости, муки кризиса — на его долю, а общение с вольнодумцами — для себя всерьез, для героя — слегка, на периферии жизни? Благородно ли это по отношению к приятелю?
Но ставить такие вопросы — не означает ли это заниматься абстрактным морализированием? Онегин — не просто плод воображения поэта, он — герой жизни. Он дан как личность: тут ни убавить, ни прибавить. И тогда выясняется: Онегин, каким он выведен в романе, не наигранно, а подлинно близок и дорог поэту.


