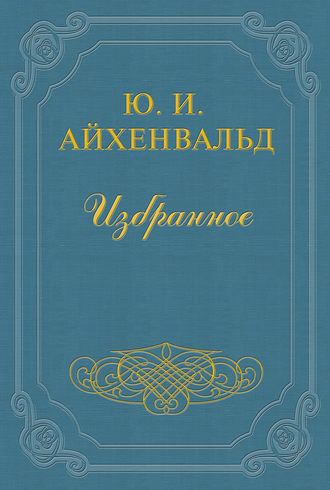
Юлий Исаевич Айхенвальд
Спор о Белинском. Ответ критикам
* * *
По поводу моего упрека, что Белинский, «критик, других критиков называл критиканами», г. Бродский направляет ко мне лирическое обращение: «Подумайте, современный критик, как иначе можно назвать тех», кто в своих рецензиях говорил разные глупости, – «а ведь Белинский именно этих „критиков“ имел в виду» (т. V, стр. 483–484).
На это я, современный критик, подумав, отвечаю: во-первых, не только на цитируемую Н. Л. Бродским страницу опирался я; во-вторых, какую бы нелепость ни печатали критики, другому критику не следует называть их критиканами: это не по-товарищески; в-третьих, уж если г. Бродский цитирует V т., 483 – 484-ю стр., то почему же он не прибавил, что там Белинский признаком «критикана», т. е. необычайной глупостью, считает и такое мнение, в силу которого «печатно называют плохим» роман Купера «Патфайндер» – это, на оценку Белинского, «гениальное произведение, каким только ознаменовалась, после Шекспира, творческая деятельность»? И возникает опасный для Белинского вопрос, кто же в данном случае критик и кто – «критикан»?
* * *
Мы вообще далеко расходимся с Н. Л. Бродским во взглядах на Белинского. Оттого мой оппонент «только с удивлением пожимает плечами» даже на такое мое невинное и неоспоримое мнение, что знаменитый критик «слишком цитирует», «слишком пересказывает содержание книги». Я вспоминаю добродушные слова Полевого, переданные Белинскому Кольцовым: «Я не знаю, что он за чудак такой (Белинский), пишет да и только – посмотрите, Бога ради – целые монологи, целые сцены из Гамлета, для чего это – не знаю, ведь Гамлета все знают. Довольно бы кажется, было два-три стиха для примера, а ниже сказать „и прочее“, вот докуда». И как Белинский цитировал «Гамлета», так он цитировал все.
Само собою разумеется, верный своему м; году, г. Бродский не забывает прибавить, что я сам таков, что это я чрезмерно цитирую. Здесь я позволю себе сказать два слова pro domo men, потому что в них будет содержаться и указание на Белинского. В «Montagsblatt der Si. Petersburger Zeitung» от 19 февраля 1907 года я в статье г. Arthur Luther'a о моих «Силуэтах имел удовольствие прочесть, между прочим, такие строки (переведу их с немецкого): „Техника цитирования у большинства русских критиков такова, что, право, ее не слишком трудно усвоить себе… Даже Белинский, у которого поистине было что сказать своего, все-таки не обходился почти никогда без цитат в целые страницы. Метода Айхенвальда – совсем другая“».
* * *
Н. Л. Бродскому «не хочется говорить о странности мнения, будто Белинский „травил“ все время Полевого: подлинные статьи его красноречиво утверждают противное».
Что «все время», я не говорил (зачем же искажать мое утверждение?), а что «травил» – да (именно совпадение этих слов у С. А. Венгерова и у меня, как мы видели, показалось Н. Л. Бродскому подозрительным).
Г. Ч. В-ский тоже в этой моей квалификации отношения Белинского к Полевому видит одно из проявлений моей «непомерной придирчивости» и утверждает, что «ведь „травили“ Полевого, если здесь уместно это слово, за то, что он во второй половине деятельности примкнул к позорному в истории русского общества союзу Булгарина и Греча; Белинскому же принадлежит не только известная общая, глубоко сочувственная посмертная оценка Полевого в отдельной статье о нем, но подобная же в некоторых отношениях оценка дана также и при жизни Полевого в отзыве об „очерках русской литературы“»…
Посмертная оценка Полевого! Какою, неведомо для г. Ч. В-ского, звучит это горькой иронией! Ведь травить можно только живого. До сих пор нельзя без острой жалости, без волнения читать потрясающие письма Полевого к брату Ксенофонту; они показывают, как бился несчастный писатель и его семья в тисках нужды, и недугов, и правительственных гонений; и Белинский все это знал, и Белинский усердно и злорадно подливал свой яд в нестерпимо горькую чашу того, с кем разделял недавно физическую и нравственную хлеб-соль. Злые и несправедливые статьи печатал он против него, обрекая себя «на раздавление ядовитой гадины» и радуясь, что «стрелы доходят до него и он бесится» (Письма, II, 42). Какой отравой напитывало свои литературные стрелы «великое сердце» Белинского, можно видеть особенно потому, что его письма вводят нас в эту ужасную лабораторию и мы читаем в них о Полевом поистине каннибальские строки. Вот, например: «Нет, никогда не раскаюсь я в моих нападках на Полевого, никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я мог раздавить моею ногой Полевого, как гадину, – я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, protege Греча… приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливого… Он проповедует ту российскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанес первые сильные удары… Для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные… его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страждут истинные таланты и лишено силы все благородное и честное – нет, брат, если я встречусь с Полевым на том свете, и там отворочусь от него, если только не наплюю ему в рожу… Не говори мне больше о нем – не кипяти и без того кипящей крови моей. Говорят, он недавно был болен водяною в голове (от подлых драм) – пусть заведутся черви в его мозгу и издохнет он в муках – я рад буду. Бог свидетель – у меня нет личных врагов, ибо я (скажу без хвастовства) по натуре моей выше личных оскорблений, но враги общественного добра – о, пусть вывалятся из них кишки, и пусть повесятся они на собственных кишках – я готов оказать им последнюю услугу – расправить петли и надеть на шеи… И ты (Боткин) заступаешься за этого человека, ты (о верх наивности) думаешь, что я скоро раскаюсь в своих нападках на него. Нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его иссохшую, фарисейскую, желтую физиономию.
Будь у меня 10 000 рублей денег – я имел бы полностью возможность выполнить эту процессию» (Письма, II, 196–199).
Да, он умел ненавидеть, Виссарион Белинский!.. За что же, однако, эта возмутительная ненависть, дикое сладострастие этой «процессии»? Как мы видели, сам гуманный критик (да и защитники его, гг. Ч. В-ский и П. Н. Сакулин) объясняет ее характером литературной деятельности Полевого в ее второй период. Но если вспомнить, что приведенные строки Белинского написаны очень скоро после статей о Бородинском сражении и о Менцеле, что сам Белинский никогда не был беден патриотизмом и национализмом, что патриотические пьесы Николая Полевого были вполне искренни, то упомянутое объяснение покажется весьма неубедительным. Ничего столь дурного не делал и не писал несчастный Полевой, чтобы, даже принимая во внимание темперамент и характер Белинского, можно было то кровожадное чувство, какое он испытывал к своему бывшему покровителю, хоть приблизительно истолковать общественностью. Панегиристы знаменитого критика отвергают ту версию, которую для освещения этого чувства предложил брат Полевого, Ксенофонт. Из его «Записок» и из писем Кольцова, который, по настоятельному требованию Белинского, передавал ему все, что говорил о нем, Белинском, Полевой, мы знаем, что последний не принял в свой журнал «Сын Отечества» огромной статьи Белинского (о «Гамлете»), не нашел ему литературных занятий в Петербурге, не выписал его туда из Москвы, так как, сообщал Николай Полевой брату, во-первых, «надобно дать время всему укласться, и затягивать человека сюда, когда он притом такой неукладчивый (и довольно дорого себя ценит), было бы неосторожно всячески, и даже по политическим отношениям»; и, во-вторых, «начисто ему поручить работу нельзя, при его плохом знании языка и языков и недостатке знаний и образованности». К этому прибавлял Николай Полевой: «Все это нельзя ли искусно объяснить, уверив притом (что, клянусь Богом, правда), что как человека я люблю его и рад делать для него что только мне возможно. Но, при объяснениях, щади чувствительность и самолюбие Белинского. Он достоин любви и уважения, и беда его одна – нелепость». Так эту версию, т. е. предположение, что Белинский был озлоблен на Полевого и восемь лет мстил ему – за отказ в напечатании статьи (и за переданные Кольцовым и Ксенофонтом Полевым общие отзывы об авторе ее), это решительно отклоняет, например. С. А. Венгеров, иронически восклицая: «Объяснение необыкновенно правдоподобное». Я же лично вынужден здесь выступить как advocatus diaboh и заявить, что психологически неправдоподобным я считаю, наоборот, объяснение исключительной ненависти Белинского из причин идейных. Если, «как ворон на падаль», накидывался Белинский на каждую строку Полевого и заранее видел в нем добычу своих литературных набегов, свою обреченную монополию («Полевой – да не прикоснется к нему никто, кроме меня! Это моя собственность, собственность по праву»); если, впадая в беззастенчивое противоречие с самим собою, он, например, издевался над тем самым переводом «Гамлета», принадлежащим Полевому, который раньше, до личной размолвки с переводчиком, вызывал у него безудержное восхищение, – то слишком обидно для русской общественности объяснять это ее интересами, вдохновляющей заботой о них. А для памяти Полевого обидно то, что г. Ч. В-ский непостижимым образом находит «подобную же в некоторых отношениях оценку его деятельности т. е, подобную „глубоко сочувственной“». – в статье Белинского об «Очерках русской литературы», той самой статье, которая полна несправедливости и пристрастия и о которой, как бы потирая руки, саркастически уведомлял Краевского безжалостный автор: «Нынешний день оканчиваю довольно обширное „похвальное слово“ другу моему, Николаю Алексеевичу Полевому». Если, говоря о своем «друге» в прошедшем времени, как о человеке поконченном, Белинский иногда роняет вынужденные и бледные слова признания о его прежних заслугах, то они совершенно исчезают в общем потоке мстительной злобы. А когда затравленный Полевой умер, тогда… тогда Белинский действительно написал сочувственную статью о своей, между прочим, жертве и в одном месте выразился про него, что это был человек «постоянно раздражаемый самыми возмутительными в отношении к нему несправедливостями»…
Даже такой поклонник «лучезарного блеска беспримерно светлой личности» Белинского, как С. А, Венгеров (Сочин. Белинского, III, 523), – и тот должен был напоследок, не в III, а в V томе (стр. 552), констатировать в своем любимце по отношению к Полевому «бесконечную несправедливость и жестокость», – и к тому же проявленные тогда, когда, разоренный после закрытия правительством «Московского телеграфа», Полевой изнывал в борьбе с градом несчастий.
Так не зря ли обидел меня г. Ч. В-ский, считая мою характеристику отношений Белинского к Полевому «непомерной придирчивостью»? Так не лучше ли, не благоразумнее ли поступил г. Бродский, которому – правда, по особым соображениям – вовсе «не хотелось говорить» об этой моей «странной» характеристике?
* * *
В одном пункте я должен сделать уступку Н. Л. Бродскому (отчасти и П. Н. Сакулину тоже, на 116-й стр. своей второй статьи, слегка касающемуся данного вопроса): я не имел достаточно оснований сказать, что Белинский «своими ошибками всецело обязан самому себе»; подчеркнутое слово нужно было бы заменить другим, менее решительным, так как, при общей внушаемости Белинского действительно следует признать, что не только правильное и хорошее мог он брать у других, но и дурное. Однако и здесь я вынужден отметить, что г. Бродский защищает Белинского от меня не так, как, с его точки зрения, было бы надо, и противоречит самому себе. «Кстати, – спрашивает мой оппонент, как примирить его (мое) утверждение, что „Белинский свое хорошее и правильное получал о г других – своими ошибками всецело обязан самому себе“, с фактом, что Станкевич считал пушкинские сказки „ложным родом“, „просто дрянью“, „Конька-Горбунка“ находил „несносным“?» (Стр. 15) Г. Бродский простодушно не замечает, что такой постановкой вопроса он уже во второй раз, выдает Белинского с головой значит, невозможно, чтобы Белинский думал и. так, как Станкевич, или додумался до своих взглядов на пушкинские сказки и «Конька-Горбунка» самостоятельно? Значит, я прав, что Белинский вообще был отголоском чужих мнений (против чего, однако, возражает г. Бродский)? Ведь если стать на скользкую для Белинского точку зрения его защитника, то последний должен бы и мне дать право строить, например, такие умозаключения: оттого Белинский высоко ценил Лермонтова, что Краевский, с которым наш критик в то время был очень близок, считал Лермонтова «меркой всего великого» (Письма, II, 252); оттого Белинский признал Гоголя, что, по свидетельству С. А Венгерова (Собрание его сочинений, 1913, II, стр. 175), Гоголь «был истинным любимцем всего кружка» Станкевича и, «в общем, увлечение Белинского Гоголем не составляет его личной заслуги» (стр. 177); оттого Белинский приветил Кольцова, что на Кольцова обратил внимание, его открыл Станкевич. Но такого права г. Бродский не даст же мне?
* * *
На мое утверждение, что Белинский был «несведущ», Н. Л. Бродский отвечает «только ссылкой на сочинения подлинного Белинского да словами ученого современника Белинского (Грановского): „Противнее всего было слушать суждение о невежестве Белинского!“» (Стр. 35).
У Грановского этого нет; у подлинного Грановского сказано так: «Противнее всего было слушать суждения С-ва (Строева) и Бодянского о невежестве Белинского» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, II, 341).







