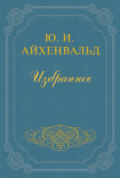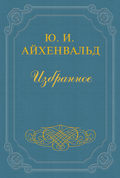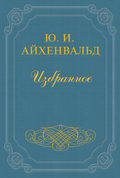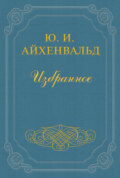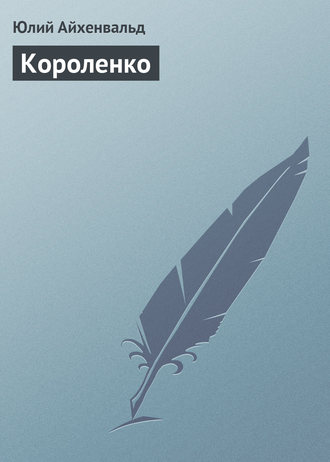
Юлий Исаевич Айхенвальд
Короленко
Пушкин ли не был другом бедного человеческого сердца? Между тем вспомните, в какое мужество и целомудрие немногих беспощадных и бесстрастных слов облек он вечную историю Анчара:
Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом —
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с адом.
Многообразно отравляет человека человек, и Короленко это хорошо и страдальчески знает и много рассказал он об этом, однако он ни разу не поднялся на торжественную и строгую вершину пушкинской неумолимости и простоты.
Но и в той человеческой сфере, которую наш гуманный писатель сделал исключительным предметом своего творчества, он избрал не самое глубокое и существенное. Душевным драмам, которые переживают его герои, недостает тонкости. Страдание, которое они терпят, элементарно и проходит в общих и примелькавшихся чертах. Весь трагизм жизни вообще рисуется Короленко в слишком общем и осязательном виде. Недаром он серьезно употребляет такие выражения, как «хоромы» и «лачуги», недаром в душе у его старого звонаря самое горе как-то празднично и тоже обще. Наш автор мало различает оттенки. Во внутреннем мире человека он взял только то, что есть в нем рационального, ясного, обыденного; ему чужд всякий мистицизм, и для него остаются недоступны едва уловимые, темные, иррациональные волнения беспокойной души или страшная прелесть греха и страсти. В этой области смутного ему знакомы только инстинкты бродяжничества, и их воплотил он в несколько ярких фигур. Те гонения и бедствия, которые сам он пережил в своей жизни, в своей политической судьбе, не сделали его глубже и тоньше. Человек страдает у него главным образом от другого человека, а не от самого себя, и даже природное несчастье слепоты вскоре свернуло у него со своей стихийной дороги и превратилось в пресный ручеек альтруизма, идейных разговоров, общественных настроений – и опять перед нами все то же человеческое, слишком человеческое. Писатель сам так хорошо говорил о «закрытых окнах» своего слепого музыканта, но он вывел его из темного одиночества; он распахнул эти окна, и хлынул в них свет гуманного возрождения: слепой проникся сознанием чужого горя, и для Короленко он через это прозрел, и Короленко, в облике дяди Максима, счел свое назначение исполненным. Но это не так. Для нас гораздо важнее и глубже была бы одинокая душа слепца, и мы хотели бы, чтобы автор не спешил приводить ее в обычное соприкосновение с окружающим миром и общественной средой. Но одинокого человека вообще мало у Короленко, одинокий человек не близок и не дорог его социально-художественной натуре. Та девушка-графиня, которая в «Дурном обществе», «величавая и сухая, в черной амазонке, проезжала по городским улицам», не интересует его; но читателю этот мелькнувший силуэт говорит о многом, и чудится ему здесь, как и в другой, пушкинской, графине, «иная повесть: долгие печали, смиренье жалоб». Короленко проходит мимо нее, потому что в ее затаенной и утонченной скорби нет событий; а он преимущественно – психолог событий, в душе его героев отражаются какие-нибудь крупные факты и несчастья, поразительные удары судьбы – например, убийства. У него много изображений такого драматизма, который исходит из редкого стечения обстоятельств и свой источник имеет извне. Но гораздо меньше занимает его та глубокая трагедия, которая неслышно и невидимо созревает в сердце человека, иногда без всякого явственного повода, на почве одних только интимных впечатлений. Между тем как значительны и страшны и как интересны для художника события внутренние, те, которые протекают в будничной обстановке и совсем не требуют для себя декораций чрезвычайных! Писатель крупных линий, писатель внешних поводов, Короленко не мог придумать большего несчастия, чем телесное калечество, и, для того чтобы олицетворить конечное страдание, он создал безногую и безрукую фигуру человека – необычайное явление природы, ее каприз и феномен («Парадокс»). Ему кажется, что это – страшное и разительное противоречие, если физически уродливое существо исповедует убеждение, будто «человек создан для счастья, как птица для полета». И «мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы». Дети, правда, могли видеть в феномене предел человеческого страдания, но потом следовало бы вынуть эту острую занозу и понять человека более тонко, в большей сложности и разнообразности его душевных движений. Короленко только в одном из позднейших своих произведений, «Не страшное», высказался о том, что трагедия жизни проста и, чтобы быть поразительной, вовсе не нуждается во внешних ужасах; но и здесь он стоит больше на точке зрения общественной, чем индивидуально-психологической, и здесь он не выходит из сферы широких очертаний.