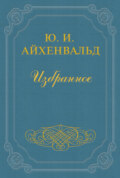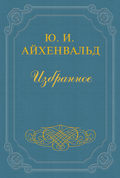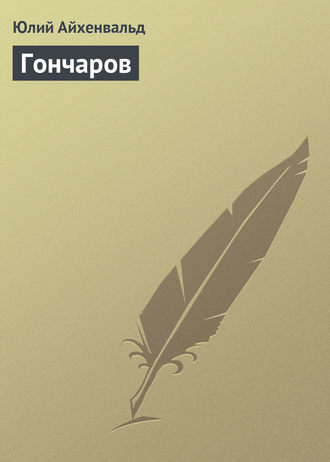
Юлий Исаевич Айхенвальд
Гончаров
Для того чтобы понять и оценить Гончарова, мы должны вникнуть только в этот роман и в остальные его беллетристические страницы; но бесполезна для нас та авторская исповедь, которую он написал по поводу Обломова и по поводу других своих произведений под заглавием «Лучше поздно, чем никогда». Если нам не нужны письма Гончарова, то не нужен и тот надуманный комментарий, который он приложил к собственному художественному тексту; мы имеем право не считаться с ним и, обойдя его, стать лицом к лицу с самим художником, тем более что и комментарии его далеко не всегда правильны. Должно быть, под влиянием публицистической критики он захотел, в только что названной исповеди, увидеть в большинстве созданных им лиц символы общественных отношений и эпох и даже в Наденьке из «Обыкновенной истории» усмотреть не живую индивидуальность, а этап в развитии русской девушки. Между тем, по собственному признанию, он творил эти лица чисто художнически, безо всякой тенденции: они выяснялись перед ним как люди, а не как представители социальных течений. И вообще, где Гончаров касается явлений общественных, поскольку они выходят за пределы установившегося быта, статики, переступают традиционную Обломовку, – там он делается просто резонером. Вспомните, например, как в «Обрыве» он характеризует Волохова. Он повествует как будто от лица Веры, но слишком явно здесь авторское намерение; Вера не могла бы говорить о «поверхностных и односторонних увлечениях» Марка: это не девичье, это – хорошо знакомое нам официальное выражение. Гончаров округленно и укоризненно, вовсе не объективно рассуждает в романе о материалистических воззрениях Волохова, он придал ему мальчишеские черты, а в своем позднейшем рассуждении удивляется, как это передовая русская молодежь приняла образ Волохова на свой счет. «Даровитые деятели в крестьянской реформе, в земских делах, в новых судебных учреждениях, где успели приобрести громкие имена: неужели это Волоховы!» – восклицает он. Гончаров не понял, что русское общество – по крайней мере, его радикально настроенная часть – могло пенять ему за самый замысел изобразить именно эту, волоховскую, сторону явления, не говоря уже о том, что и сделано это изображение недоказательно; Волохову, например, приписано слишком много мировоззрения, теории, которой он будто бы не мог поступиться даже в минуты увлечения и страсти. Гончаров не понял, что Тушин, на которого он указывает как на истинного представителя новой молодежи, нисколько не проникнут элементом критики, протеста, а ведь именно этот элемент и составлял главное и существенное в «нигилизме», и если иногда он принимал наивные и комические формы, то в основе его лежало глубокое и честное возмущение «черной неправдой» дореформенной России, позором крепостничества. Тушин – энергичный деятель в своем лесном царстве, прекрасный хозяин; но ведь не хозяйственные доблести, не заводы и фабрики, которые у Гончарова являются неизменными атрибутами положительных героев, – не они служат двигателями духовного развития. Волоховский протест мелочен и смешон; но Гончаров, в своей чрезмерной политической оседлости, не заметил той волны серьезного и вдумчивого протеста, которая всколыхнула застоявшуюся жизнь и которая, между прочим, увлекла и девушек из «почтенных», как он характерно выражается, семейств. Впрочем, гончаровская Вера, как мы уже видели, вовсе и не была увлечена: она больше спасала, и не она шла к Волохову, а, напротив, звала его к себе – к бабушке, к отцу Василию, к брачному алтарю, и звала не потому, чтобы непосредственно и наивно верила во все это, как ее сестра, а потому, что ее спокойный духовный творец наделил ее большим запасом трезвого ума.