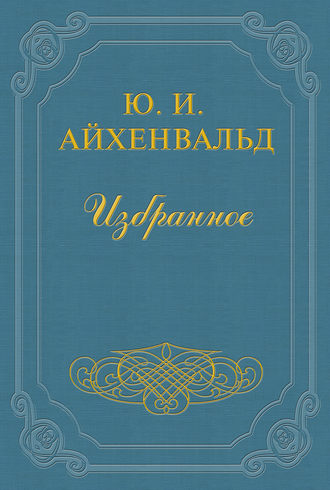
Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов
И знаменательно то несомненное, что не те, кто стоит на берегу и видит чужую гибель, но сами гибнущие, сами страдающие все-таки славят у Чехова жизнь, надеются на нее и питают к ней глубокое доверие. В тихую ночь утихает даже безмерное горе Липы, в тихую и прекрасную ночь верится, что, как ни велико зло, «все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью».
Все на земле терпеливо ждет слияния с правдой и милосердием – о, великое терпение человечества! И девушка, у которой разбили сердце, которая застенчиво пережила обиду и горе дурнушки, находит в себе силы для того, чтобы утешать другого несчастного – своего дядю Ваню. Она верует, верует горячо, страстно. И она кладет свою утомленную голову на руки дяде и уверяет его, что Бог сжалится над ними, что они УВИДЯТ жизнь светлую и прекрасную, что они с умилением и с улыбкой оглянутся на свои теперешние обиды, – они отдохнут.
«Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах… Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем. Мы отдохнем».
Все человечество, как бедный дядя Ваня, не знало в своей жизни радостей – оно утомлено за свои долгие и страдальческие века. Его усталость Чехов изобразил в красках проникновенной печали. Но он заветно мечтал о бессмертном отдыхе человечества.
В 1904 году смерть уложила на отдых его самого. Он отдохнул от грубости, которая его оскорбляла, от человеческой скорби, которой питался его дух, от смешного и горького – он отдохнул. И мы не знаем, нам Чехов не скажет, действительно ли он увидел все небо в алмазах, действительно ли он услышал пение ангелов: кто уходит из жизни, тот уносит с собою великую тайну, великую разгадку тайны… Но мы знаем, что, наверное, дано Чехову бессмертие у нас в душе, и она стремится к нему, писателю идеала, в идеальных порывах своих, когда не замыкают ее всякие ключи от хозяйства, когда, неудовлетворенная и неудовлетворимая, тоскует она по красоте и вечности, по светлой радости духа.
Он был другом живописца Левитана, который умер раньше его, и оба они встают перед нами в каком-то ореоле мечтательной задумчивости, оба, исполненные лиризма и грусти, оба, безвременно отнятые у жизни и России. Война и революция заслонили от нас их прекрасные тихие образы. Но раньше, до нашей кровавой бури, казалось, что невыразимой тоскою тосковала по ним русская земля и русская природа, полюбившая полюбившего ее художника-еврея, – все эти золотые плесы, незаметные церковки, тихие обители, весь этот нежный фон для сиротливой чайки, для усталого дяди Вани, для лишних чеховских людей с одухотворенными лицами и больными сердцами. И звала Чехова русская женщина, звала его степь, которая давно томится и ждет своего певца, звали его юноши и дети. И особенно грезилось, что где-нибудь в доме с мезонином раскрывается окно и выглядывает из него бледная девушка, типичная читательница Чехова, и держит она в руке томик его рассказов; и слышится ей, бледной девушке, будто в тишине лунного вечера играет Чехов на какой-то волшебной скрипке, и несутся издалека меланхолические звуки, и плачет задушевная элегия – и сердце замирает в истоме под этот пленительный напев…
Дети у Чехова
Одной из характерных особенностей Чехова является то, что его, писателя тонкой психологии, писателя рефлексии, очень интересовало и сознание элементарное: его тешила эта примечательная игра, когда сложное отражается в простом. Он даже нарисовал мир с точки зрения Каштанки – мир, где все человечество делится на «две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков», где двери театра, у которых снуют лошади, но не видно собак, «как рты, глотают людей», где раздается «ненавистная музыка». В глазах Каштанки у состоятельного человека «обстановка – бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами: у негр есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань…». У состоятельного человека в комнате «не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками». Лошаденка городского извозчика Ионы тоже погружена в мысль: «кого оторвали от плуга, от привычных, серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать»… Мысли овец, «длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражают и угнетают их самих до бесчувствия».
Тонкими чертами написал Чехов и элементарные души детей. Нам пришлось уже раньше сказать, что есть нечто прекрасное и трогательное в этой группе: Чехов и ребенок. Глаза, уже оскорбленные и утомленные жизнью, светящиеся вечерним светом юмора и печали, – и глаза, на жизненное утро только что раскрывшиеся, всему удивленные и доверчивые. И писатель ласково и любовно берет за руку это удивляющееся дитя, Егорушку или Гришу, и вместе с ним идет по жизни, странствует по ее знойной степи. Гамлет со свойственной ему глубиной заглядывает в маленькое сердце своего оригинального попутчика и художественно рисует, как последний представляет себе новую и свежую для него действительность. У Чехова мы наблюдаем не только ребенка таким, как он кажется нам, но и самих себя, как мы кажемся ребенку.
Мы уже забыли, какой вид имели для нас люди и вещи на заре нашего сознания, – Чехов удивительно об этом напомнил. Так правдоподобно, так несомненно, что и мы, как Гриша, знали сперва один только «четырехугольный мир» своей детской, где за нянькиным сундуком «очень много» разных вещей, а именно: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. Оказывается, что мама была похожа на куклу, а кошка была бы похожа на папину шубу, если бы только у шубы были глаза и хвост. В «пространстве, где обедают и пьют чай», стоял когда-то наш стул на высоких ножках и висели часы, «существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить». A вот и комната, «куда не пускают и где мелькает папа – личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: они одевают, кормят и укладывают спать, но для чего существует папа – неизвестно». «Еще есть другая загадочная личность – это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было». А когда он гуляет на бульваре, перед ним столько «пап, мам и теть», что он не знает, к кому и подбежать. И так как от кошки строит он свое мировоззрение, то и не сомневается, что это перебежали через бульвар «две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами», и он убежденно считает своим долгом поспешно устремиться за ними вслед; и без дальних слов берет он себе один чужой апельсин из того «маленького корыта с апельсинами», которое держала «какая-то няня»…
Так Чехов наклоняется к ребенку и с улыбкой следит за тем, как смотрится в его глаза недавняя знакомка-жизнь. Весь мир обращается в сплошную детскую. К нему прилагают специальное крошечное мерило, и он входит в ребяческое сознание очень суженный, упрощенный, но зато весь интересный и новый. Мы теперь даже представить себе этого не можем: кругом нас – известное, старое, примелькавшееся, а когда-то все краски предметов были свежи и все было новое, все было первое. Как далеки мы ныне от первого! Тем крупнее, следовательно, эстетическая заслуга писателя, который сумел вернуть нас к этой исчезнувшей поре, к «милому, дорогому, незабвенному детству», – так называет ее чеховский Архиерей, мешая в своем сердце воспоминания и молитвы. И нужно быть очень внимательным к душе, чтобы вспомнить и понять удивление мальчика Пашки, который в больнице из ответов своей матери на расспросы фельдшера впервые «узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи».
Это первое, это начало пленительно. Когда художник извлекает его из-под обильного слоя накопленных за жизнь впечатлений, тогда новым светом загорается все поблекшее и перед нами встает очаровательный детский образ. Их много у Чехова; можно было бы составить особую хрестоматию из его страниц, на которых являются дети. Это было бы лучше, чем рассказывать о них; пусть бы они говорили сами за себя, так как ни их, ни Чехова все равно не расскажешь. Они выступают у него не приторные, не подслащенные – они так естественны в наивности своего разговора, в этой смене интересов, блещущей неожиданными вопросами и переходами. У него и «злые мальчики» – например, тот «благородный человек», который за рубль согласился не выдавать чужой тайны. В уста детей он влагает слова комически-серьезные или серьезные щемящим откликом детского несчастья. Ребенок у него повинуется течению собственных мыслей, своему внутреннему мирку и образует этим замечательный контраст с чужими увещаниями, с усилиями воспитателя. Детская радость и детское горе одинаково нашли себе у него мягкие и нежные краски, и, например, в «Степи» воспроизведена едва ли не вся гамма детских ощущений.
Эти маленькие существа образуют свое отдельное царство, они живут как бы в особой нравственной части света. Мы на них уже не похожи; многого в нас они не понимают. Мы над ними возвысились своею опытной душой, своим взрослым умом, и оттого наше отношение к ним подернуто дымкой юмора. Вполне серьезно, торжественно и объективно их нельзя рисовать. Однако, населяя особую детскую и превращая в нее всю окружающую среду, они в то же время – и мы сами; они – наше прошлое, и в них же растет наше будущее. Мы были ими, и они станут нами. Оттого и производит такое своеобразное впечатление зрелище детей, эта республика, или, вернее, анархия лиллипутов; они одновременно и близки нам, и далеки от нас – именно эта игра на близком и далеком, на сходном и чужом и создает забавные и чарующие эффекты детской. Все сводится к этим переливам сходства и разницы; глядя на детей, мы, точно Гулливеры, поднявшие их на свою ладонь, как бы спрашиваем себя: мы ли это или не мы? Как они напоминают нас, как они от нас отличаются! Вот, например, они сидят за обеденным столом и играют в лото, точь-в-точь как и взрослые; и даже играют с азартом, который явно написан на лице девятилетнего мальчика с пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами: повсюду лежат копейки – да, наши обычные копейки, столь хорошо известные нам, большим… Но в то же время Соня, «девочка шести лет с кудрявой головой и с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках», играет ради процесса игры, и по лицу ее разлито умиление; «кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши». А брат ее, «пухлый, шаровидный карапузик, по виду флегма, но в душе порядочная бестия, сел не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре; ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого». И в конце вечера игроки направляются к маминой постели («вязкий клей» слипает глаза), и «через какие-нибудь пять минут кровать представляет собою любопытное зрелище»: на ней вповалку сладко и крепко спят все партнеры. А то, о чем разговаривают они во время игры, – это столь же чудное сплетение взрослого и детского, отражение первого в последнем.
Наши дети, «кудрявые дети», – это мы. Нельзя этого не сознавать тому, кто их любит. «Я любил эту девочку безумно», – говорит о себе герой чеховского рассказа. «В ней я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя длинное, костлявое, бородатое тело, то буду жить в этих голубых глазах, в белокурых шелковых волосиках и в этих пухлых розовых ручонках, которые так любовно гладят меня по лицу и обнимают мою шею». И образы детей реют кругом нас. Была грациозная девочка с белокурой головкой и «большими, как копейки, задумчивыми глазами»; она бледнела, и широко раскрывались эти голубые глаза, когда ей рассказывали библейские истории – про чечевицу Исава, про казнь Содома и про бедствия маленького мальчика Иосифа. Потом эта девочка стала актрисой, потом она умерла, молодая, – и служат по ней панихиду. «Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком, косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви. И кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа». И вечером в роще даже «какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно касается щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит». «Если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими». И разве можно наказать Сережу, когда он касается своей щекой волос отца и на душе у последнего «становится тепло и мягко, так мягко, как будто и не одни руки, а вся душа его лежит на бархате Сережиной куртки»? Отец заглядывает в большие темные глаза мальчика, и ему кажется, что из них глядят «и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо». Когда плачет дитя и нежно умоляет: «Дорогой папа, вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля», то человек, мыкающийся по жизни, мужским плачем вторит своей плачущей девочке и убеждает ее: «Дружочек мой, что же я могу сделать! Пойми меня! Ну, пойми!» И среди воя непогоды все это звучит «сладкой, человеческой музыкой».







