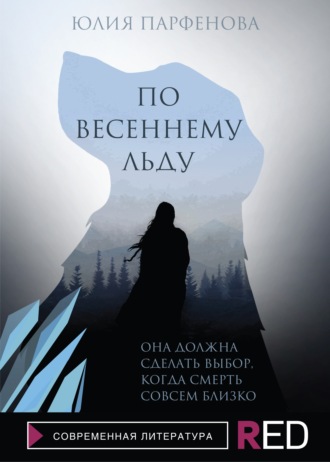
Юлия Парфенова
По весеннему льду
Предчувствуя удивительные изменения будничной жизни, возможность тайного и удивительного мира, скрытого от домашней и школьной суеты, Тома летела в красивый храм, с синими куполами. Именно в этот храм ходила последние годы её бабушка, называя его округлым и уютным словом «церква». Зажав в пальцах, влажных от волнения, деньги, старательно накопленные из тех сумм, что отец давал на книги и пластинки, Тома зашла в тёмную маленькую церковку около большого храма. Она напоминала крошечный грибок, прилепившийся к огромному собрату.
Всё не заладилось с первых минут. Молодой священник с насмешливыми чёрными глазами, окинув быстрым взглядом старательно подобранную для торжественного случая длинную юбку и синий платок (ах, эта тень от ресниц на бледной щеке Лизы Калитиной!), процедил недоброжелательно:
– Это что за монахиня пожаловала?
Тома растерялась и испугалась. Торжественное настроение улетучилось почти мгновенно, и очень захотелось улизнуть на улицу.
– Иди уже сюда, – сухо распорядился священник. – Деньги туда сдай, матушке за кассой.
Тома заплатила трясущейся рукой, получила свечу и встала рядышком с двумя шепчущимися девушками её возраста. Они тоже пришли креститься. Их одежда с коротенькими юбочками и тоненькими шарфиками на голове не вызвала у мрачного иерея никаких подозрений в скрытой гордыне.
– Как храмы открыли, так и повалили… всякие… – бормотал черноглазый священник, поглядывая на Тому. – Модно!
Тома чувствовала, что близко слёзы. Она молча смотрела на иконостас и два центральных лика – Христа и Богоматери – потихоньку расплывались. Дальше всё было как в тумане. Она подчинялась указаниям черноглазого, говорила, что надо, делала, что скажут. Подняла подол юбки, когда надо было мазать чем-то благоухающим ноги. «Ещё миро изводить на таких», – пробормотал священник себе под нос. Неправильно перекрестилась и услышала, что слева направо крестятся только дети Сатаны. Но слух был уже притуплен, зрение тоже, и даже мысли словно заморозились. Её тревожная душа защищалась от стресса. Тома уже представляла, что священник совсем другой, не злой и раздражительный, а добрый и понимающий. И что какой-то невиданный свет запутался пушистыми лучами в узких окошках наверху, а она сейчас сможет плавно взмыть в воздух. Прямо к этому свету…
После этого она долго не ходила в церковь. Лишь во время экзаменов в Академию Художеств, снова зашла в домовый храм и немного постояла. А потом начала ходить на службы, но уже вместе с Матвеем. Приход был молодой, наполовину студенческий, и чувство общины, защищённости, юношеские мистические настроения, атмосферность пасхальных крестных ходов по узким коридорам ночного здания с готическими средневековыми потолками, а главное, почти физическое чувство близости неба – всё это наполняло жизнь Томы в то время особым высоким смыслом.
Тома вспоминала всё это и одновременно мыла Баронету лапы, насыпала в миску корм, вытряхивала из сумки таблетки от головной боли, ходила по дому, выполняя какие-то нехитрые дела. Всё это, находясь там, в прошлом.
Такое у неё было удивительное свойство – уходить в своё прошлое, как в глубокий илистый пруд, она пыталась нащупать дно, но только глубже погружалась в тёмные воды. Это было мучительно, и Тома боролась со странной особенностью собственной психики довольно долго, но в результате ничего не добилась.
Одна из её случайных приятельниц, не склонная к излишней деликатности и жёсткая дама, заметила, что Томе хорошо бы пройти курс терапии – «Твои флэшбэки до добра не доведут. Ты посмотри на себя! Ты же ярко выраженная «пограничница», у нормальных людей таких провалов в прошлое не бывает. А если и бывает, они не парятся, а быстро выкидывают из головы».
Тома тогда задумалась, но решила, что это важно – не забывать собственное прошлое, даже если ты с ним не согласен, даже если ты бы хотел его изменить. Может, это поможет решить проблемы в настоящем? Проблема заключалась в том, что некоторые комнаты прошлого открывать откровенно не хотелось. Слишком страшно было внутри них. Но они открывались сами, не повинуясь её желаниям. Достаточно было внезапно и безошибочно узнанных цвета, звука, запаха… Может, приятельница и была права. Матвей, прекрасно зная её способность забредать в лабиринты памяти, ускользая от дня сегодняшнего, всячески Тому за это корил, словно боялся, что она может остаться в одной из этих душных комнаток и навеки погрузится в разгадывание зашифрованных манускриптов собственной жизни.
Тома закончила домашние дела и села за стол. Открыла свой текст и стала перечитывать уже написанное. Быстро переделала пару неудачных абзацев, начала новый и опять задумалась.
Год назад она уволилась из школы, где проработала много лет. Несколько лет Тома вела уроки изо, потом, когда появился новый предмет – мировая художественная культура, стала вести и его. В юности она ходила заниматься живописью в рисовальные классы при Академии Художеств и один раз прошла все круги ада двухнедельной экзаменационной гонки, пытаясь воплотить свою мечту – стать художником-иллюстратором. Так, чтобы книги и живопись слились во что-то единое и прекрасное.
Величавое здание восемнадцатого века, где холодные даже в летнюю пору коридоры, отделённые от внешнего зноя толстыми каменными стенами, уносили взгляд к теням сложных готических потолков, снилось ей и по сей день. Тогда она недобрала баллов и ушла из храма искусства, парившего над Невой как золотой корабль с гордой Минервой на бушприте, под сень университетских стен, закончила худграф педагогического Университета. После окончания поплавала туда-сюда в качестве свободного художника, а потом, устав от нестабильного заработка, плавно перетекла на учительское место, кадров в её совершенно обычной районной школе всегда не хватало.
За все годы работы она не устала от детей, они как раз давали ей душевных сил больше, чем отнимали. Она невыносимо устала от самой школы. Сменился правильный ответственный директор, уступив место лощёной даме с равнодушным взглядом земноводного – изменились и нравы учителей. Выгоревшие профессионально до состояния головёшек, женщины возраста печального осеннего увядания, окрашивающего лица дам всеми оттенками красного, от нервически-розового до припадочно-бордового, позволяли себе по отношению к детям вещи совершенно невозможные. Часто случалось, что агрессивные вопли некоторых маститых педагогов со стажем доходили до таких смертельных децибел, что начинали нервно посмеиваться молодые коллеги в соседних классах. Тома слышала, видела, мучилась – и ничего не могла сделать. Было жаль и смертельно усталых учителей, и детей, оказавшихся у них в заложниках. Внутри рождалось невыносимое отторжение, и тоска, холодная вода корпоративной этики уже не помогала. Сама Тома, Тамара Станиславовна, или Стасечка, как её звали ученики, голос не повышала. Если ребёнок был не просто неприятным, а практически невыносимым, и она мало что могла сделать, Тома держалась с ним ровно и спокойно, иногда даже слишком ровно и спокойно, но все ученики боялись этого ледяного отчуждённого спокойствия. Оно сразу низводило общение с учителем на такой сухо-официальный, абсолютно отстранённый уровень, что действовало хуже любых криков. У ребят это называлось: «Стасечка строит».
Она простилась с любимым кабинетом, где своими руками помогала делать ремонт, где висели фотографии выпущенных ею классов, а подаренный родителями давних учеников маленький пёстрый фикус вырос в целое дерево. Там, около её стола, помещался объёмистый чайник и банка кофе – дети обожали пить кофе на переменках, рассказывая ей взахлёб свои важные новости, по её наблюдениям, от этого явно повышалась успеваемость. Уроки, поездки, выпускные – всё это было её жизнью много лет, а теперь тоже стало частью прошлого. И это было тяжело. Когда первого сентября она поняла, что идти никуда не надо, – накатила депрессия. Тоска не отпускала Тому до самого Нового года, а когда все радовались и пили шампанское, она задумала писать книгу. Как только эта мысль пришла ей в голову, Тома ожила. Писала она класса с девятого; для неё это было своеобразным способом беседы, восполнением общения, которого не всегда хватало. Тома была девочкой замкнутой, почти ни с кем не дружила, жила своими грёзами и беспрерывным чтением, до красных глаз, до головной боли. В школьные годы у неё был единственный близкий друг, они перестали общаться в семнадцать лет, и Тома запрещала себе думать и вспоминать о нём. Эта пещера памяти, кстати, довольно вместительная, была старательно засыпана огромными тяжёлыми камнями.
Неизбежная социальная обособленность интроверта, благодаря работе в школе была восполнена с лихвой, но любовь к литературным изысканиям не пропала, а после увольнения появилось время, чтобы писать.
Тома вспомнила запах своего класса, вспомнила самых любимых своих детей, многие, давно закончившие школу, продолжали с ней общаться. И вот именно эти воспоминания мобилизовали её к работе. Строчки росли плотными тёмными ветвями, теряя и вновь получая нужные слова, словно живой организм, питающийся маленькими чёрными знаками. Из крошечных буковок, складывались лица и звуки, память становилась реальностью, пусть вторичной, заключённой в тексте, но не менее важной, чем та, что переливалась гомоном птиц за окном.
Тома печатала, стараясь не обращать внимания на ноющие виски, не ощутила, как прошёл час, потом второй, не заметила, как за окном потухло солнце и ещё больше усилился ветер. Лишь когда по крыше дробно ударил майский ливень, она подняла от монитора глаза, удивилась и решила попить чайку. Виски уже не просто ныли, там работала настоящая строительная дрель. Вот тут и раздался звонок. Сотовый жужжал и шевелился на гладком столе, Тома поставила режим без звука и забыла об этом. Она посмотрела на номер, номер был совершенно незнакомый. Тома очень не любила незнакомых номеров, с её повышенной тревожностью любая неизвестность представлялась угрозой. А когда угроза превращалась в рекламу бесплатных акций спа-салонов, к только что пережитому беспокойству прибавлялось ещё и раздражение. Тома встала из-за стола, вышла в коридор, держа мобильник около уха, ответила и посмотрела на себя в зеркало. Уставшее лицо, прямые тёмные волосы до плеч с лёгкой проседью, нахмуренные тонкие брови, глаза в полумраке коридора кажутся тёмно-карими, хотя на свету они тёплого, желудёвого оттенка, а при определённом освещении становятся ярко-горчичными. Виридоновая зелёная плюс охра золотистая, если точнее, подумала Тома. Она часто видела предметы словно уже написанными, пойманными среди укрытий света и тени. Сказывалась многолетняя привычка. Тома продолжала писать натюрморты и пейзажи в свободное время, потому что желание ощутить запечатлённое время, цвет и свет, запах масла и разбавителя, упругую плотность чистого белого холста, мучило её временами как приступы жажды или голода.
Пауза затянулась, в сотовом молчали.
– Алло, – ещё раз напряжённо буркнула Тома. За окном громыхнуло, и лёгкие шторы за её спиной надулись от ветра пузырём. Голова болела по-прежнему, таблетка не помогла.
– Здравствуй, – голос был низкий мужской, но лишён какой-либо живой эмоции, словно тряпка, которую бесконечно стирали до состояния полной потери цвета и формы.
– Здравствуйте, – ещё больше занервничала Тома, одной рукой закрывая дверь на террасу.
– Тамара, ты меня не узнаёшь?
– Н-нет… – запнувшись, ответила Тома; опознать кого-либо по такому голосу, на её взгляд, было вообще невозможно.
– Это Павел. Паша Крестовский.
– Пашка! – ахнула Тома, от волнения она встала со стула и зачем-то пошла на кухню. Стало совсем темно, гроза набирала силу, словно дом находился не в пригороде Петербурга, а в зоне тропических тайфунов. Лес стал колыхаться, как трава, и кроны деревьев почти наполовину пригнулись к земле. С грохотом улетел к ограде лёгкий стул, стоявший на террасе. Карман памяти не просто открылся, звонок взрезал его, вспорол как бритва вора. Звонил тот самый, единственный школьный друг, о котором она совершенно не хотела вспоминать.
– Да, Тома. Это я. Ты можешь разговаривать?
– Я? – растерялась Тома. – Ну да, могу, конечно. Я дома работаю. У нас тут гроза такая…
От растерянности, которая вызвала дрожь и слабость в коленках, она хотела в красках живописать весь грозовой ужас, но осеклась. То ли испугалась, что глупо прозвучит, то ли воздуха не хватило.
– Пашка, ты в Питере вообще? У тебя что-то случилось? – спросила она, включая электрический чайник трясущейся рукой. Голубая подсветка закипающей воды всегда её успокаивала. Тома нашарила одной рукой банку с кофе, открыла и насыпала две ложки в чашку. Потом налила вскипевшую воду.
– Да. Я в Питере… Оно давно случилось, как выясняется. А сегодня… ты не слышала в новостях про мальчика, которого биологическая мать родила по чужим документам?
С резким щелчком синий огонёк погас, и вода перестала бурлить.
– Ну вот, свет вырубился. Опять провода порвались где-то, – грустно сказала Тома. – Я прочитала в новостях. Паш. Вспомнила ещё подобные случаи в девяностых, распереживалась. Тёмное время было. А почему ты спрашиваешь?
– Это мой сын, – сказал Павел, и Тома показалось, что он плачет. – Томка, это мой сын. Я думал, что это мой сын…
Рука, в которой Тамара держала чашку с кофе, вдруг онемела, и дымящийся напиток хлынул ей на колено.
От резкой острой боли в обожжённом колене Тома вскрикнула, чертыхнулась, вот откуда ноги растут у Лёшкиной невоспитанности, и с грохотом поставила чашку на стол. Перевела дыхание, посмотрела на мобильник, в котором говорили, костяшки пальцев побелели, так сильно она его сжала. Ещё раз вздохнула и поднесла телефон к уху.
– Тома, Тома, что там у тебя? Тома, Господи, что у тебя случилось? – монотонно повторял Пашка.
– Всё нормально, – сдавленно ответила Тома. – Я кофе себе на коленку пролила. Горячий.
– Пантенолом надо, – прошелестел невидимый собеседник.
– Павел! – Тома вдруг разозлилась. На всё сразу. На свой испуг, набухающую саднящим жжением коленку, головную боль и тошноту. И, разумеется, на самого Пашку. – Павел, ты где мой телефон раздобыл?
– Мне Толя дал. Смирнов. А что?
Ну конечно, Толя Смирнов. Кто же ещё. Толя знал все телефоны, все пароли и явки. Просто Шерлок Холмс какой-то. Толя прорывался к ней в соцсетях, но Тома упорно оставляла его в подписчиках, потому что напоминал ей Толя неизвестного науке скользкого гада. Даже не своей непривлекательной внешностью; из низкорослого, с непропорционально большой головой и низким лбом под ровной чёлкой мальчика, он превратился в низенького упитанного, лысого мужчину с большой головой. Гада он напоминал своей непомерной приспособляемостью к обстоятельствам, искательной улыбкой и способностью продвигаться по карьерной лестнице без каких-либо выдающихся талантов. Скользил, приподняв голову, медленно и целенаправленно.
Тома, с усилием заставила себя вернуться к тому, из-за чего пролила кофе. Мысли скакали в голове совершенно произвольно, трудно было взять себя в руки и сосредоточиться.
– Паша, объясни всё-таки, что случилось. Что значит, твой сын. Ты… женат? – едва произнеся это, она уже знала ответ.
– Был женат. Вера умерла. Четыре года назад.
– Прости… – Тома стояла около стеклянных дверей на террасу и смотрела, как струи ливня закручиваются от ветра. – Я не очень понимаю, что у вас… у тебя произошло.
– Может, нам встретиться? – голос Павла был неуверенным и настойчивым одновременно. Только он так умел. И Тома вдруг поняла, что ей это нравится сейчас, точно так же, как нравилось в детстве.
– Где? – спросила она довольно глупым голосом.
– Ну… давай в Сосновке, у пруда. Помнишь, мы гуляли там. Давно…
Тома, которая ожидала услышать название какого-нибудь ресторанчика или, на худой конец, забегаловки, даже растерялась. Встреча у пруда. В парке. Это что-то прямо из Тургенева, какие-то смутные девушки в утреннем тумане, росистые травы, белые скамейки на песчаных дорожках… или зелёные скамейки? Нет, зелёная скамейка – это уже Достоевский.
– Ну давай… – согласилась она растерянно. Благо, пруд прекрасно помнила. Небольшой такой, с опушёнными травой бережками. Во времена их детства там было довольно уединённое место, где бродили редкие собачники и ещё более редкие мамы с колясками. А что там сейчас, она даже не представляла.
– Тома… – Пашкин голос звучал так странно, что она испугалась. – Тома, давай встретимся в четверг. Завтра. В шесть. И… не говори ничего мужу.
Тома открыла было рот, чтобы задать массу одномоментно возникших вопросов, но звонок прервался.
– И что мне с этим делать теперь? – спросила она, глядя на свой мобильник. Конечно, можно было перезвонить бессовестному другу детства и сказать, что она не подписывалась на очередные конспиративные игры. Но Тома положила телефон на стол и перезванивать не стала. Она прогнулась, согласилась на встречу. Через столько лет. И это заняло у него всего несколько минут.
* * *
Пашка был её школьным лучшим другом. Они были похожи как близнецы. Не внешне, нет. Они были похожи по характеру, всеми своими странными реакциями на окружающий мир, дурацкими страхами и радостями, совершенно непонятными окружающим. В первом классе они сначала сидели вместе, а потом их рассадили. Чтобы не влияли друг на друга. Влияли друг на друга они, действительно, сильно. Их мысли и идеи с пугающим постоянством входили в резонанс, подобно злосчастной колонне гренадёров на Египетском мосту.
В результате происходило обрушение, а точнее, очередная хулиганская афера, и мало не казалось никому. В числе особо тяжких преступлений числились: разбитый бюст Ленина, стоявший в рекреации на первом этаже, и небольшой пожар в хозяйственной подсобке около раздевалки.
Гигантский полый бюст Ильича из гипса на ржавом железном каркасе имел сбоку, в стенке постамента, удобную дыру. Два второклассника туда прекрасно помещались. Пашка захотел проверить, сколько времени получится оставаться незамеченными в этом чудесном тайнике. На следующий день Тома принесла в школу бутылку воды и бутерброды – это был их запас пищи на бессрочный период. Уроки начальной школы проходили во вторую смену, а зимой вечерело рано. Дети уходили домой, а в школьных рекреациях ворчливые уборщицы нехотя тёрли старый линолеум дерюжными влажными тряпками, намотанными на деревянные швабры. Тома и Пашка дождались пока в нужной рекреации выключили свет и, сдавленно хихикая, залезли в самые недра вождя мирового пролетариата. Пакет с едой они тоже не забыли. Внутри вождя оказалось довольно тесно, темно, пыльно и валялись засохшие огрызки яблок. Томе всё это не понравилось, она хотела на волю, на улицу, где свежий морозный воздух. Существенным побудительным мотивом было и то, что там, на воле, её ждала бабушка. Пашка, чей дом просто упирался в школу, возвращался с уроков самостоятельно, а Тому встречали. И они, нечаянно, про это забыли. Пашка расстроился и стал ворчать. Эксперимент находился под угрозой срыва. И в этот момент они услышали цокающие шаги завуча Ирины Валентиновны. Завуч отличалась настолько крутым нравом, что у юных экспериментаторов перехватило от страха дыхание. Когда цоканье высоченных каблуков раздалось прямо около них, Тома в панике попыталась выбраться из укрытия. Пашка в ужасе попытался остановить её, схватив за подол форменного платья. Тома потеряла равновесие и упала на полпути к свободе.
Бюст накренился, где-то сбоку не своим голосом заорала от неожиданности Ирина Валентиновна, и только-только Тома высвободила ноги и отползла, вся гипсовая конструкция, с заключённым внутри Пашкой, упала на пол и развалилась. В памяти Томы ярко отпечаталась икающая завуч с выпученными глазами, и абсолютно белый, весь в гипсовой крошке Пашка, шевелящийся в обломках. Сколько потом было шума! Тома отделалась только эмоциональным шоком, а Пашка с головы до пят был покрыт разноцветными синяками. Родителей вызывали к директору, детей посадили под домашний арест – целую неделю они не выходили гулять, только шептались по телефону. Хотя за Пашкой следили и к телефону не подпускали. Пашка был в семье единственным ребёнком, у Томы имелся старший брат, но у него была своя компания друзей. Товарищей в классе оба не завели, потому что – зачем? Они были вполне довольны обществом друг друга.
Почти полгода сообщники вели себя смирно, летом разъехались по своим и тосковали в разлуке, но потом начался учебный год, и ликующая Тома рассказала Пашке про спиритические сеансы. Пашка загорелся моментально, он очень хотел вызвать дух Ломоносова и спросить, как он мог сидеть в обозе на рыбе, это же чертовски противно?
Местом для важного разговора выбрали комнатку с тряпками и швабрами, там было тихо и спокойно. Опять дождались, пока школа затихнет, а гардеробщица и уборщицы пойдут пить чай. Дверь в подсобку никто не запирал, что там красть? Добытчица Тома принесла в портфеле тарелку, Пашка свечки. Всё шло очень хорошо, тарелка завертелась, Тома, назначенная медиумом (в своих талантах такого рода Пашка неожиданно засомневался), ждала, когда отзовётся Михайло Васильевич, но тут неудачно пристроенная свечка подожгла ворох заскорузлых тряпок. Едкий чёрный дым моментально наполнил тесную каморку, а тряпки горели ярко и весело. Из школьного вестибюля раздался отчаянный крик: «Горим!» Раздался топот множества ног, и дверь распахнулась. До этого момента Пашка успел схватить железное ведро, по счастью наполненное грязной, ещё не вылитой после уборки водой, и залил пламя. Пожилой физрук, прибежавший вместе с уборщицей, выволок их за шиворот из вонючего дыма и отвёл на улицу – глотнуть свежего воздуха. Потом начались звонки родителям, и опять крики, угрозы отчисления и прочие страшности. Друзья долго томились в неволе, даже звонки с домашнего телефона мать Пашки строго контролировала. После этой истории дети затаились. Они решили, что будут очень осторожными и мудрыми. Штабом их страшно интересной и насыщенной дружеской деятельности стала Томина девчачья комнатка с куклами на полках. К Пашке домой Тому уже не пускали – боялись. Боялись тихой и застенчивой девочки в больших неудобных очках; она ведь могла плохо повлиять на Павлика, победителя всевозможных школьных олимпиад! Томины родители оказались более либерально настроены, перед школьным руководством не трепетали и считали, что дружба девочек с мальчиками очень полезна.
К средней школе, когда уроки стали начинаться, как и положено, утром, они научились шифроваться и разработали систему тайных знаков. Теперь полная конспиративность стала их основным принципом. В шестом классе Пашка вычитал в каком-то подозрительном журнале, что человек может почувствовать особые аномальные зоны, и даже встретить там инопланетян. Ближайшая зона с неприятным названием – Мга – была найдена незамедлительно, и пару недель они копили на школьных завтраках деньги для уфологической экспедиции. Но потом Пашка прочёл воспоминания Александра Дюма о путешествии по России и его страшно заинтересовало Ладожское озеро, с его странными завихрениями волн и непонятным гулом из глубин. Решено было ехать на берег Ладоги, туда, где из озера рождается Нева. Помимо всего прочего, там можно было полюбоваться на удивительную крепость Орешек, которая преграждала путь шведам прямо в самом истоке светлой невской ленты.
На выходных, сочинив легенду о дне рождения одноклассника, оба двинулись разными путями к маленькой и уютной станции с вкусным названием Кушелевка и сели в поезд. Дорога была весёлой, они жевали припасённые Томой тянучки и рассматривали картинки с гуманоидами. Вышли на станции Петрокрепость и увидели огромный паровоз! Оказалось, что это мемориальный паровоз, на лаково-блестящих чёрных боках которого было написано, что он первым после прорыва блокады Ленинграда доставил на Большую землю поезд. Ребята постояли около этой внушительной махины, потом залезли по лесенке повыше, и Тома вспомнила рассказы бабушки про блокаду. Она попыталась рассказать их Пашке, но он перебил, засуетился, закричал, что можно не успеть до темноты, и они побежали куда-то, ведомые самостоятельно собранным Пашкой прибором – что-то небольшое, с загорающейся лампочкой. Пашка уверял Тому, что прибор покажет инопланетный след. Тома заинтересовалась принципом действия, но Пашка путался, не мог объяснить, и она заподозрила, что прибор на самом деле является маленьким, обмотанным изолентой и обкрученным цветными проводками, фонариком с садящейся батарейкой. Свое предположение она вслух не высказала, что-то остановило. Очень уж у друга был растерянный вид. Пока они шли по широкой сельской дороге, Пашка рассказывал об узниках крепости, но Тома успела почитать дома про самых важных заключённых. Она плохо слушала и больше любовалась домиками с палисадниками, где остались последние ржаво-золотые остатки листвы, и голыми рябинами, на которых птицы клевали уже прихваченные первыми заморозками гроздья ягод.
Вид на древнюю крепость обоим очень понравился, древние стены с полукруглыми башнями темнели у них на глазах. Ребята успели полюбоваться последним вечерним розовато-золотым светом, превратившим крепость в какой-то удивительный замок посреди индиговых вод, а потом всё погасло, солнце ушло в плотную пелену тяжёлых облаков, и ладожский каменный форпост стал лиловато-серым миражом, призраком, в обрамлении беспокойных волн, с белыми гребешками.
Дети шли вдоль домов рыбацкого посёлка, разглядывая маленькие сарайчики для лодок с зелёными от мха крышами, лепившиеся к усыпанному валунами берегу, огромных чаек, которые изредка прохаживались между прибрежными островками водорослей и тростника. Птицы поразили Тому своим размером, ведь, когда они кружили над водой, словно ожившие белые гребешки пены, они казались совсем маленькими! До сих пор, при воспоминании об этих чайках, Тома не могла отделаться от ощущения, что птицы были не совсем птицами. Они так смотрели по сторонам, так тревожно и моляще кричали! Пашка шёпотом поведал ей тогда, что в чаек вселяются души погибших моряков. Тома возразила, что они на берегу реки, рядом, пусть гигантское, но озеро, и здесь, наверное, вселяются души рыбаков, а не моряков. Но Пашка упёрся, и она перестала возражать. Прямо на берегу был ещё один мемориал в память о строительстве моста для связи с Большой землей. Он напоминал корабль с высокой мачтой, плывущий прямо по волнам береговых холмов. Дети немножко посидели на его удобных бетонных ступенях, но быстро замерзли.
Каким-то незаметным образом стемнело, и они оказались совершенно одни на полоске светлого мокрого песка, между шумящими водами и тёмным лесом. Под осенним промозглым ветром длинные жёлтые травы с метёлками наверху шуршали как струя сыплющегося в гигантских песочных часах песка. Дело было в конце октября, очень быстро стало совершенно ничего не видно, и дорогу обратно к станции они забыли. Вроде шли обратно по своим следам, а пришли к какому-то пустому дому с разрушенной крышей. В довершение всех неприятностей начался сильный дождь, и совершенно растерянные, превратившиеся из уверенных в себе уфологов в мокрых и жалких крысят, они бежали по скользкой глинистой дороге, бежали наугад, лишь бы выйти к свету. Правда, Пашка держался на удивление уверенно, даже зажигал спички, пытаясь осветить свой удивительный уфологический компас, но спички гасли под дождём, а делать живой шалашик из рук Тома отказалась.
Им явно покровительствовал детский бог, потому что дождь затих внезапно, будто его выключили. И дорога изменилась; Тома ещё отметила её светлую гладкость, «лунная пыль» так она подумала; это завораживающее название она видела на обложке одной из книг, в шкафчике с фантастикой. Эта пыль или песок, он был очень мелкий, казался ненастоящим и слегка светился. Тома даже взглянула на небо, ища глазами луну, но небо оказалось чистым и нежно-фиолетовым. Никакой луны и даже звёзд. Подул лёгкий ветерок, запахло цветами и травой. Тома посмотрела на Пашку, а он глядел на неё.
Несколько минут они прошло шли, забыв, куда идут и зачем. А потом всё закончилось. Сначала потемнела земля под ногами, потом небо, а потом им в лицо опять зарядил мелкий моросящий дождь, с почти незаметной снежной пылью. И ребята ускорили шаг.
Прибежали они точнёхонько обратно к станции, несмотря на обилие поворотов и побочных троп, уводящих в страшную овражистую тьму. Уже на станции Тома попыталась начать разговор о лунной пыли, но друг смотрел в сторону и беседу не поддержал. Оба устали, замёрзли и промокли.
В электричке было светло, тепло и сухо – этого хватило, чтобы Пашка тут же заявил о своей гениальной топографической интуиции, а Тома радостно с ним согласилась. Правда уже через минуту Пашка обнаружил пропажу уникального прибора, который, наверное, вывалился на бегу из кармана, и замолчал в мрачном унынии до самого города. С ним случались такие странности, то он молчал часами, то вдруг злился, то хохотал невпопад. Но Тома всё это терпела. Она всегда с ним соглашалась, потому что иначе пропадало всё волшебство их общения. Тома чувствовала себя не в своей тарелке, когда он злился. Потому что дорожила им. Интереснее, чем с Пашкой, не было ни с кем. Ещё Пашка как-то очень легко говорил ей, чуть ли не с первого класса – я без тебя ничего не смогу. Это казалось Томе совершенно естественным, она тогда тоже не могла без него! Стоило ей посмотреть в глаза, прозрачные, цвета кофе или торфяной холодной воды – такая текла в речке около Томиной дачи, и всё в жизни казалось второстепенным, неважным, оставалось только то, о чём говорил Пашка.
Если в младших классах Тома ездила с родителями на море, и Пашка был ещё слишком мал, чтобы посылать ей корреспонденцию, то в средних всё изменилось. После пятого класса Томины родители, утомлённые бесконечной тоскливой летней перепиской дочери с томящимся в городской жаркой неволе Пашкой, который приносил им свои письма с рисунками ручкой и забирал Томины с вложенными акварельками, отправили её на одну смену в пионерлагерь. Отцу предложили путёвку в Политехническом институте, где он преподавал. Хотя сами родители были очень глубоко не уверены, что их замкнутое и стеснительное книжное чадо, взирающее на мир через круглые очки в пластмассовой коричневого цвета оправе (а выбора-то в те времена большого не было), будет счастливо в специфических условиях коллективного детского отдыха.
Детские воспоминания об этом лагерном месяце остались в памяти Томы смутным пятном печали, тоски по дому и первой абсолютно безответной детской влюблённости в молодого бородатого пионервожатого, как бог играющего на гитаре.



