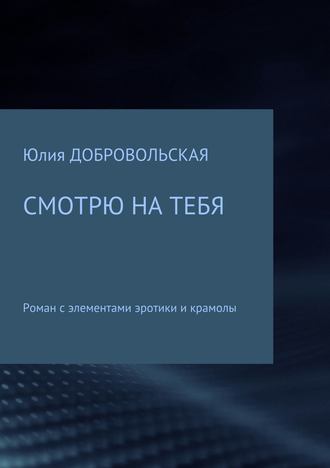
Юлия Добровольская
Смотрю на тебя
В поле нашего зрения попала часть металлической кровати с серым полосатым матрацем и две пары дрыгающихся на нём ног. Потом дрыганье прекратилось, мы ждали-ждали, но ничего больше не происходило, и мы разошлись.
После этого я ещё не раз участвовала в подглядывании за непонятными мне действиями, но, в отличие от остальных, ни восторга, ни просто интереса к происходящему не испытывала.
Двадцать шесть лет тому назад
– Ну да, – сказала Дора, – только у пьяниц и ханыг это не так красиво и романтично.
– А у тебя уже было… ну… с мужчиной? – спросила я.
– Тоже нет, – сказала Дора, – но к этому надо готовиться.
– Как это? – Заинтересовалась я.
– Изучать своё тело, узнавать, что ему приятно, а что нет, какое место наиболее эффектно, а какое следует прикрывать.
– Как это?..
– Раздевайся, – сказала она.
– Совсем? – спросила я.
– Совсем.
Я разделась, она тоже.
– Грудь хороша, – сказала Дора, – запомни, это твоё наибольшее достоинство.
– А я думала, – сказала я, – что она слишком мала, для того, чтобы быть достоинством.
– Не думаю, что Антону понравится коровье вымя! Он человек утончённый, а не мужлан какой-нибудь деревенский. Та-ак, – сказала она, поворачивая меня кругом, – попка у тебя тоже хороша: маленькая и аккуратная… талия в порядке… ноги… вот только не косолапь, следи за походкой. И не сутулься!
Дора показала мне приём вырабатывания правильной осанки и изящной походки – со стопкой книг на голове.
Потом она заставила меня беспристрастно и критично оценить её собственные достоинства и недостатки.
Я не могла быть беспристрастной, и тем более – критичной. Дора – моя подруга, единственная за всю мою жизнь подруга. Как я могу сказать ей, что у неё слишком короткие ноги и слишком узкие для её бёдер плечи?..
– У тебя здоровская талия, – сказала я.
– Дальше, – сказала Дора.
– И ужасно прямая спина, мне такой в жизни не сделать!
– Критики не слышу, – сказала Дора.
– Да у тебя всё так классно и правильно!..
– Ну, ладно – Дору, видимо, вполне устроил разбор её фигуры по косточкам в моём исполнении. – Переходим к следующему этапу. Гладь себя здесь, – сказала она и стала гладить свою грудь.
– Ничего…
– Давай я, – сказала она.
Когда гладила она, было щекотно. Ещё щекотно было по бокам живота, на шее и спине.
– Это твои эрогенные зоны, – сказала Дора.
– Угу, – кивнула я с понимающим видом.
Я удивлялась: откуда всё это может быть известно моей ровеснице, девчонке, как и я, игравшей чуть ли не до десятого класса в куклы? Девчонке, жившей вовсе не в столице, а где-то за лесами и долами – тогда мне казалось, что любой город, в который нужно ехать поездом, а не электричкой, это несусветная дальняя даль. Откуда в Ярославле можно было узнать обо всём этом?..
Да, тогда я была искренне уверена, что все знания сосредоточены только в одном месте – в Москве…
Сколько же раз потом я посмеюсь над той собой, когда, встречаясь с людьми, родившимися и прожившими на невесть каких дальних «окраинах империи», буду поражаться их разносторонности, эрудиции, духовности!..
– А здесь ты себя когда-нибудь трогала? – и она коснулась моего паха.
Я вздрогнула от знакомого ощущения и сказала небрежно:
– Так, иногда.
* * *
Мне не хотелось рассказывать Доре – не знаю уж, почему, – о том далёком лете в Крыму, о моей первой любви, о первом поцелуе… о потере невинности, короче… если это можно, конечно, так назвать.
Мне было тринадцать. Моя душа была тогда подобна цветочному бутону, которого вдруг, одним прекрасным утром, коснулись лучи солнца, и тот принялся стремительно разворачивать лепесток за лепестком навстречу зовущему неведомому. Что-то лопалось внутри, что-то прорастало, причиняя боль – острую и сладкую. А я не успевала за этими происходящими в непонятной ещё себе самой непонятными переменами и томилась ожиданием неведомого чего-то, что изменит или дополнит… или уж не знаю, что ещё сделает с моей жизнью… Но что-то, что-то обязательно должно было произойти! Иначе не выжить!..
Неистовый стрёкот цикад заполнил воздух. Он и был, казалось, самим воздухом, вибрирующие атомы которого издавали этот звук. И ещё они источали густой дурман ночной фиалки, маленькие, не слишком выразительные цветки которой раскрывались только с наступлением сумерек. Да, таким и был ночной южный воздух: стрёкот цикад и аромат фиалки. Он кружил голову, баламутил душу и лишал покоя. Хотелось куда-то бежать и чего-то искать. Амок.
Вот так вот однажды, в едва обозначившихся сумерках – нет, не сознания, всё же, а в бархатном предвечерье южного города – движимая этим неосознанным порывом, я вышла за ворота дома, где мама с папой на открытой кухне готовили к ужину чебуреки, и направилась к пустырю невдалеке от нашего дома. Там окрестная ребятня играла в лапту. Я села на тёплый валун под одинокой одичавшей яблоней.
По сей день я не любитель активного отдыха и подвижных игр, и тогда не слишком-то любила участвовать во всей этой возне и беготне с визгами и криками. Но правила лапты я знала, поэтому следить за ней мне было интересно. Команды, видимо, только-только поменялись местами, и начался новый кон. Паша, сын наших домохозяев, стоял в городе на изготовке – на полусогнутых ногах, с лаптой, отведённой для удара. Я смотрела на него и ждала, когда подающий подбросит мяч в воздух, а Паша развернётся, как взведённая и спущенная со стопора пружина, и лупанёт по мячу. Да так сильно, что, кажется, мяч должен будет с треском разорваться в клочья… Я знала, как Паша умеет бить. И он ударил. Раздался громкий «чпок!», и мяч улетел далеко за линию кона. С Пашиных ударов свечу фиг поймаешь, не надейтесь! И ещё с его удара можно едва ли не пару раз сбегать в дом.
Да, подумала я, Паша здесь самый… самый… Самый – какой? Я не находила определения, но сердце почему-то при этой мысли заколотилось, словно съехавший с рельсов поезд.
Это было что-то новое для меня. Я вгляделась в давно знакомого мне пацана. Голубая вискозная майка с мелкими дырочками, словно простреленная дробью, явно с отцовского плеча – дали донашивать в экстремальных условиях мальчишечьих игр, – заправленная в синие треники, которые закатаны выше колена, чтоб не мешали бегать, и потрёпанные китайские полукеды на босу ногу. Вот и весь прекрасный принц Паша. Да, и ещё соломенный ёжик с двумя макушками и зелёные глаза в густых пушистых, тоже соломенного цвета, ресницах.
Он был старше меня на пару лет. Точно, в том году он перешёл в десятый класс и собирался после него поступать в мореходное. И поступит. И больше я его никогда не увижу.
А пока было лето, вечер и свалившаяся на меня, сидящую под яблоней, первая, совершенно внезапная и оглушительная, любовь. Я не знала только, что с этим делать. Что делать с колотящимся о рёбра в ритме шаманского бубна сердцем, с мутящимся рассудком и неодолимым желанием куда-то бежать…
Кон доиграть не успели – стемнело. Стемнело стремительно, как это бывает на юге, и мяча уже не стало видно. Ребята принялись спорить, во что ещё поиграть, пока всех не загнали по домам – в прятки или в салки. А я так и сидела на камне, глядя на Пашу.
Вдруг до меня дошло, что Паша направляется в мою сторону. Подошёл. Встал рядом.
– Чего не играешь? – Спросил он.
– Неохота.
– Пошли, погуляем?
– Пошли.
Тут я услышала папин голос:
– Зоя! Кушать!
– Давай, сперва чебуреков поедим, – сказала я Паше, – а потом пойдём гулять.
– Давай.
Мы поужинали и отпросились до десяти часов. К морю меня не отпустили, даже с надёжным Пашей, и мы сказали, что будем на пустыре.
Исходили в пароксизме эмоций цикады, ночные фиалки, высаженные на клумбах у каждой калитки, истово точили колдовские флюиды, но меня уже никуда не тянуло, мне было хорошо там, где я была – рядом с Пашей.
С того вечера мы были вместе. Паша даже стал ходить с нами на море, хотя прежде считал это самым глупым занятием на свете, подходящим только для приезжих бездельников: притащиться на городской пляж и лежать там часами на песке, ничего не делая. Уж если проводить время на море, считал Паша, то идти нужно куда-нибудь в дикое место, где можно понырять со скалы, наловить рыбы или креветок и жарить их потом на костре, на раскалённых огнём камнях.
С Пашиным появлением на пляже посёлка Айвазовское его обитателям стало заметно веселее. Паша не пожелал бездельничать, и мы с ним и с папой строили замысловатые песочные замки – каждый день новые – украшали их мозаикой из ракушек, выкапывали озёра и ведущие к ним от моря каналы, в озёра эти селили рачков-отшельников, которых ловили и таскали нам в резиновых купальных шапочках все, кому было не лень – и детвора, и их родители.
Когда надоедало возиться со строительством, мы с Пашей уходили по кромке воды за сетчатое ограждение с надписью «Проход строго воспрещён!», уединялись там на сваленных в кучу железобетонных блоках, защищавших от прибоя стоящие поодаль огромные цистерны с нефтью или чем-то таким, и вели свои нескончаемые разговоры обо всём на свете.
С того самого вечера Паша перестал играть в обычные вечерние игры на пустыре за домом, и мы с ним или гуляли по улице из конца в конец, или сидели где-нибудь на смолистой тёплой поленнице, которую ещё не успели разделать на чурбаны и пустить под топор.
Как-то мы забрались на крышу сарая, стоящего среди фруктового сада и сразу полюбили это удивительное место, этот необитаемый остров, дрейфующий в волнах густых зелёных крон, с бесконечным космосом над ним, до отказа набитым звёздами.
Однажды Паша взял меня за руку и, не глядя на меня, очень по-взрослому спросил:
– Ты уже целовалась с мальчишками?
– Нет, – ответила я и вмиг разволновалась. – А ты?
– Я?.. Было дело. – Сказал он небрежно чуть охрипшим голосом и замолчал.
Мне хотелось сказать ему: «поцелуй меня» – но я не решалась. Хоть я и знать не знала, как, а главное – для чего это делается. А мне так хотелось, так хотелось… Наверное, очередной раскрывшийся лепесток бутона ведал именно этой стороной отношений полов.
– Хочешь, я тебя поцелую? – Может, Паша услышал мои мысли?..
– Да… Хочу.
Он повернул к себе моё лицо и коснулся губами губ.
Я не знала, что нужно делать дальше, и нужно ли. Но было приятно ощущать, как его губы, подрагивая, захватывают мои, сжимают их. Потом Пашин язык проник в мой рот так настойчиво, что пришлось разомкнуть зубы.
Не хватало воздуха, и я резко отстранилась и часто задышала, переводя дух.
– Дыши носом! – Сказал Паша и снова вцепился губами в мой рот.
И точно – оказывается, можно было играть языками, как угодно долго, спокойно дыша при этом через нос. Правда, спокойно дышать уже не получалось – почему-то такие поцелуи волновали ещё больше, чем запахи и звуки окружающего мира.
Пашина ладонь легла мне на грудь. Потом сдавила её. Потом попыталась пролезть внутрь через вырез сарафана. Я, не отрываясь от приятного занятия, перехватила Пашину руку и показала ей более простой путь – снизу, под подолом.
Когда я ощутила кожей шершавую горячую ладонь, и когда Пашины пальцы сжали мой сосок, я едва не лишилась чувств.
Паша был таким же невинным романтиком, как и я. Хотя, в отличие от меня, тепличного городского квартирного растения, вырос он на улице и был гораздо старше, чем я – не так годами, как опытом. Он вполне мог тогда довести дело до логического завершения, и я бы не противилась. Но он остановился.
– Всё, больше не надо… – прохрипел он и оставил меня.
– Почему? – спросила я.
– Ну, ты же ещё этого не делала?.. – Это был полувопрос, полуутверждение.
– Чего – этого? – Спросила я.
– Ну вот… – Паша сдавленно засмеялся, – спрашиваешь, значит, не делала… значит, не знаешь…
– Знаю. – Как я догадалась, что должно последовать дальше? – Знаю.
Паша молча смотрел на меня в темноте.
– Знаешь?.. Откуда?..
– Я сама так делаю…
– Как?..
– Дай руку.
Паша послушно протянул мне руку. Я положила её туда, где уже бушевала стихия. Её нужно было немедленно укротить, иначе… Иначе смерть.
Наверное, всё-таки, Паша знал и умел нечто другое, но он быстро понял, что нужно здесь и сейчас. Я легла, задрала сарафан, сдвинула резинку, он склонился надо мной и жадно смотрел мне в лицо. Его пальцы были такие же чуткие, как мои собственные.
Мы ещё много раз делали это, почти каждый вечер – если только я оставалась дома, а не шла с родителями в кино или гулять на набережную.
Почему же я разлюбила Пашу, как только тронулся поезд, уносивший меня домой, в Москву?
Потому, что он не осмелился повести меня дальше?.. Но – честное слово! – я тогда не знала ещё, что именно бывает дальше. Чем занимались мама с папой там, в том же сене, что и мы с Пашей? Тем же, чем и мы с Пашей?.. Нет, скорей всего, чем-то другим, понимала я.
Или потому что он как раз сделал то, что сделал?.. Эдакая неосознанная месть взявшему – пусть и добровольно отданную – мою невинность?.. Да, до Паши я была невинна душой, а после него невинным оставалось только тело. Да и то – как ещё посмотреть…
А может, всё тот же добрый ангел – инстинкт самосохранения – вмешался? Взял да и отключил источник бессмысленных переживаний, никчёмных ожиданий, иссушающей тоски. Он-то знал, что я больше никогда не увижу Пашу – зачем страдать по тому, чему не судьба сбыться? Значит, Паша не был моей судьбой!..
* * *
– Ласкай меня, а я буду тебя. – Дора проявляла деловитость и сосредоточенность.
Мы легли, и она научила меня более изысканному способу, нежели мой собственный, удовлетворения просыпающейся плоти.
Мы делали это не часто. Думаю, назвать это лесбийскими отношениями нельзя – наши души не участвовали в получении телесного удовольствия.
* * *
Как-то на одной из вечеринок у Антона мы танцевали с ним, и я вдруг почувствовала, что его рука не просто лежит на моих лопатках, а едва заметно гладит их – то перебирая пальцами, то прижимаясь всей ладонью.
После короткого совещания Дора заявила:
– Он тебя хочет.
– Что, раздеть? – не поняла я.
– Ну, и раздеть тоже, – сказала она. – Он хочет лечь с тобой в постель.
Когда Дора сказала «лечь в постель», я не знала, что она имеет в виду: лечь, как мы с папой лежали, или – как дед с бабой? Мне, конечно, больше нравилось, как мы с папой, но я уже начинала понимать, что взрослые мужчина и женщина ложатся в постель для того, чтобы делать то, на что мы ходили смотреть в подвальное окно.
Моя романтическая натура упорно не желала принимать данный вид взаимоотношения полов – неужели без этого нельзя обойтись?!
– Дура, – сказала Дора, – это может быть и красиво и романтично, ты что, в кино не видела?
Но в кино кроме поцелуев ничего не показывают.
И вдруг я вспомнила странную возню мамы и папы на чердаке в соломе и яблоках, их изменившиеся голоса.
– Это уже ближе к делу, – заключила она. – Мужчина и женщина делают это для удовольствия.
И она рассказала в наиболее доступной для круглых тупиц форме, что и как они делают.
Можно ли представить себе, что потом, в момент, когда я и мой возлюбленный подошли к той самой черте, которую переступают лишь раз в жизни, я стала бы вспоминать Дорин ликбез?..
* * *
На годовщину смерти мамы с папой приехала тётушка.
Она знала, что мы – я и Дора – подружились между собой и с Антоном, и пригласила его на скромные тихие поминки.
Тётушка уезжала на следующий день, и мы с Антоном поехали провожать её на Ленинградский вокзал. А потом Антон поехал провожать меня.
– Зайдём? – спросила я на крыльце своего дома.
Он не отказался.
Мы сидели на кухне, пили вино и говорили.
Меня вдруг понесло по детству. Я стала рассказывать про папу, про нашу с ним дружбу. Я плакала от ощущения потери, от выпитого вина и смеялась, когда вспоминала что-нибудь забавное. А потом опять плакала.
Я уже давно не испытывала обиды на моего любимого папу за то, что он оставил меня одну-одинёшеньку на произвол судьбы. Я любила его и тосковала по нашему общению, как тоскуют по тому, чего уже никогда, никогда не вернуть – светло и легко.
– Будь моим папой, – вдруг сказала я Антону.
Антон посмотрел на меня удивлённо, а я стала горячо объяснять ему, как нам будет здорово вместе: я хорошо готовлю, умею стирать и гладить любые самые сложные вещи.
– Ты живёшь один, – говорила я, – у тебя много работы, я буду заботиться о тебе, как заботилась о папе.
Удивление в его глазах сменилось ожиданием развязки: то ли это розыгрыш, и я прикидываюсь дурочкой, то ли таковой и являюсь.
– Ты не хочешь? – спросила я.
– А ты не думаешь, – ответил он вопросом на вопрос, – что у меня есть женщина?
– Которая стирает и убирает? Так уволь её! Я буду делать всё бесплатно!
Он онемел.
– Ты имеешь в виду домработницу, так ведь? – уточнила я.
– Нет, – пришёл он в себя, – жену.
– Да нет у тебя никакой жены!
– Откуда ты знаешь?
– Я же её ни разу не видела!
Антон так захохотал, что я тоже не выдержала, хоть и не знала, над чем смеюсь.
Когда мы успокоились, он опустил голову, помолчал, а потом произнёс:
– Мне кажется, я к тебе привязался.
– Правда? – удивилась я.
– Правда. – И он посмотрел на меня очень серьёзно. – Но ты такая глупышка, что я просто не представляю, как с этим быть.
Я потупила взгляд. Я не знала, как расценивать его слова. Обижаться мне не хотелось, да и не очень-то я это умела. И произнёс их Антон вовсе не обидным тоном, а даже как-то ласково…
– Вот побудь моим папой, повоспитывай меня, – сказала я и посмотрела на Антона.
– Хорошо! – ответил он неожиданно легко.
– Правда? – обрадовалась я. – Прямо сейчас?
– Прямо сейчас, потому что идти мне некуда, уже второй час ночи, и метро закрыто.
– Ура-а-а-а, – тихо проскулила я, глядя счастливыми глазами ему в глаза.
Я принялась убирать со стола и мыть посуду.
– Ура-а-а, – напевала я себе под нос, но иногда не выдерживала и при взгляде на Антона взвизгивала: – Ура-а-а!
Он смеялся и качал головой.
– Сейчас я тебе постелю, где ты ляжешь? – Я уже стала деловитой, заботливой хозяйкой дома. – Ты можешь лечь в гостиной на диване, можешь в родительской спальне, а можешь в моей комнате, я там уже год не живу, я сплю у мамы с папой.
– Ну и задачка, – сказал он. – Где посоветуешь?
– У родителей очень хорошо спится. Ты можешь лечь со мной, мы без мамы всегда спали с папой вдвоём.
Он усмехнулся:
– Ну что ж, если я должен быть твоим папой, пусть будет так, как было у вас.
* * *
Доре я рассказала по телефону всё на следующий же день.
– Ну, ты даёшь! – сказала она, – и что, вы спали вместе?
– Да! Только не так, как с папой.
– А как?!
– Под разными одеялами.
– И он не приставал к тебе?
– Нет, не приставал! – Сказала я с гордостью, хотя, скорей всего, это было очко не в мою пользу. Но я гордилась Антоном.
Прошло несколько недель. Мне нравилась наша жизнь – мы жили на два дома: то у меня, то у Антона.
Я обожала его. Мне было бесконечно интересно с ним.
Сколько себя помню, я всегда проявляла жадность ко всему новому и неизвестному. Я была ненасытной девочкой – меня увлекало всё и вся. Мой любимый вопрос был: «почему?» – я должна докопаться до всех корней и деталей. Моя любимая реплика: «расскажи!» – я должна немедленно узнать то, чего ещё не знаю. Я буквально пиявкой присасывалась ко всем, кто казался мне хоть чем-то занятным.
С Антоном мне было ещё и привычно – словно вернулись времена беззаботного детства, точнее, той части моего детства, в которой существовали только папа и я. И именно то обстоятельство, что с приходом Антона в мой дом забот как раз прибавилось, сделало мою жизнь привычной во всех отношениях – оно наполнило её смыслом. В моём понимании жизнь имеет смысл, только если рядом есть человек, о котором ты можешь и хочешь заботиться.
Я отстранила Антона от всяческого рода самообслуживания. Я с усердием следила, чтобы в наших квартирах царили чистота и порядок – ведь они обе служили нам домом. Чтобы в каждой квартире всегда было, из чего приготовить поесть – это давало нам дополнительную степень свободы и позволяло не привязываться к обстоятельствам, а руководствоваться исключительно настроением.
Моя учёба шла как-то сама собой, при этом я являлась примером всему курсу и получала повышенную стипендию. Чтобы Антон мог оставаться доволен своим выбором, чтобы он ни в чём не испытывал неудобства, я готова была не спать и ночами. Но этого не требовалось – я всё успевала в своё время.
В первые дни, даже недели нашей жизни с Антоном я несколько раз ловила себя на том, что нет-нет, да и зашевелится какая-то смутная тревога в моей душе. Я замирала, и словно сканировала пространство – откуда же, из какого угла потянуло вдруг досадным, унылым сквозняком?.. А потом понимала, что это моя глубинная память с опаской ждёт момента, когда безмятежному миру и сладостной гармонии придёт конец. И внезапное осознание того, что уже нет мамы, которая может нарушить этот покой, всякий раз делало меня ещё более счастливой.
То ли постоянное присутствие мужчины рядом, то ли естественный процесс взросления заставляли меня всё чаще задумываться над тем, сколько же это может длиться – такое вот дружеское сосуществование.
Я начинала всё чаще испытывать волнение не только рядом с Антоном, а даже при воспоминании о нём. Когда я пыталась снять напряжение проверенным способом, у меня ничего не получалось, мне не хотелось этого делать. Мне хотелось, чтобы это сделал Антон.
Антон же вёл себя со мной безукоризненно по-отцовски. Конечно, мы оставались друзьями – мы говорили и спорили, смеялись и делились новостями, огорчениями и радостями. Мы подолгу болтали ночами, лёжа на одной широкой постели. Как когда-то папа, Антон приобщал меня к неведомому миру – теперь это был мир театра.
* * *
Однажды Дора повела меня на известный – как теперь говорят, культовый – французский фильм. Фильм о любви.
– Я хочу, чтобы у нас вот так же было с Антоном, – сказала я.
– А он больше не говорит тебе о том, что влюблён?
– Нет, ведь он согласился быть мне отцом!
– Дура ты! – в который раз услышала я от подруги. – Антон просто благородный! Думаешь, если он стал тебе отцом, так он мужчиной перестал быть? Соблазни его!
– Это ты дура! Я ни за что не променяю нашу дружбу на какую-то там животную физиологию!
Мы обе были набитыми дурами. Тогда мы представить себе не могли, что самые полноценные любовные отношения могут быть только при глубокой дружбе, а дружба, скреплённая обоюдным физическим удовольствием – это ни с чем не сравнимая по силе и полноте связь.
* * *
После весенней сессии мне предстояло уехать на трёхнедельную практику в Вологодскую область – собирать тамошний фольклор.
Я так не хоронила папу, как расставалась с Антоном. Я выла и ночью, засыпая ещё рядом с ним, и днём, когда он уходил на работу.
– Я умру на другой же день, – говорила я, – я несколько часов и то с трудом без тебя обхожусь.
– Ты будешь звонить мне каждый день, и мы будем разговаривать, сколько захочешь, – говорил он.
– Это, конечно неплохо, но слишком дорого, – хлюпала я.
– Придётся выбирать одно из двух, практичная ты моя! – смеялся Антон.
– Ты ещё смеяться можешь! – я разражалась новым приступом рыданий.
– Я не смеюсь, – говорил он, – я пытаюсь придумать, что с тобой делать, как тебя утешить. Ведь ты не в другую галактику улетаешь, а за каких-то пятьсот вёрст, и не навсегда, а всего на три недели.
– Всего!.. – передразнивала я его. – Это тебе, может, «всего», а мне не «всего»…
– Я вот в армию уходил аж на два года, а это, знаешь ли, семьсот тридцать дней и ночей! Да на другой конец Советского Союза, за семь тысяч километров. – Он сделал паузу и продолжил: – Тут уж, по крайней мере, понятно, почему меня моя девушка не дождалась.
Я умолкла и посмотрела на Антона. До меня дошла истинная причина моих слёз. Но первое, что я ответила на это, было:
– Расскажи!
* * *
Однажды под Новый Год – Антон учился на последнем курсе – в пригородной электричке он познакомился с девушкой и влюбился в неё прямо с первого взгляда. Девушка была маленькая и тоненькая – даже в своей пушистой кроличьей шубке – и казалась хрупкой и беззащитной в толпе рвущихся к дверям пассажиров. Антон помог ей войти в вагон, подсадив на подножку, и поддержал в тот момент, когда какой-то пьяный дядька едва не повалился на неё в тамбуре.
Сидячих мест им не хватило, и Антон, пристроив девушку в углу у входа, загородил её собой от толчеи. Она не была особенно разговорчива, но, видно, из благодарности за заботу, отвечала на вопросы Антона – односложно, но вежливо.
Ехали они около сорока минут. За это время Антон узнал, что девушку зовут Оля, что она живёт в Пушкино, а учится в энергетическом институте на втором курсе.
– Что может быть общего у такой хрупкой девочки с циклопическим планом ГОЭЛРО? – Спросил Антон с улыбкой.
Девушка тоже улыбнулась и сказала, что её профиль – финансы, а не гигантские турбины.
Прощаясь, Антон выпросил у Оли свидание и без особой надежды пришёл в условленный день и час к Музею Изобразительных Искусств имени Пушкина. За пазухой у него приютилась маленькая белая розочка.
Оля пришла вовремя, чем приятно удивила Антона – не тем, что вовремя, а тем, что пришла. Они часа три пробродили по залам музея, делясь друг с другом своими любимыми художниками и впечатлениями от их картин. Потом, проголодавшись, съели в кафетерии поблизости по две порции сосисок, запили их кофе с пончиками и расстались на платформе около Олиной электрички.
Новый Год они встречали не вместе, но вечер первого дня наступившего тысяча девятьсот шестьдесят седьмого провели вдвоём.
*
– Надо же, – сказала я, – я ещё пешком под стол ходила, а ты уже любовь с девчонками крутил!
– Это была первая девчонка, с которой я, как ты выражаешься, крутил любовь, – сказал Антон.
– Ты что, до двадцати с лишним лет ни разу не влюблялся? – удивилась я.
Антон как-то слишком долго смотрел в стену напротив – даже, скорей, сквозь неё.
– Только один раз, – сказал он таким голосом, что я почему-то не решилась настаивать на подробностях этой истории.
– А что с Олей? – Меня разбирало любопытство, чем всё закончилось.
*
С Олей они подружились и встречались довольно часто – насколько, конечно, позволяли им занятия в институтах.
А потом Антон получил диплом и повёл Олю в «Прагу». А после провожал до электрички. Там и поцеловал её в первый раз – на перроне, под тёплым летним дождём.
*
– А знаешь, – сказал Антон ни с того, ни с сего, – вы с ней чем-то похожи.
– Да? Чем?
– Цветом глаз… Нет, не только… Надо же, я думал, что совсем забыл, как она выглядела.
Когда я пересказывала Доре историю Антона, я отметила и эту деталь – не без удовольствия, скажу честно, мною воспринятую. Мне в голову не пришло задуматься, почему наше сходство с девушкой, в которую когда-то был влюблён Антон, доставляет мне удовольствие.
Дорина реакция была как ушат ледяной воды.
– Лично я ни за что не позволила бы мужчине сравнивать меня с какой-то другой женщиной! – Отчеканила она с осуждением в голосе.
Кому было адресовано это осуждение: Антону за то, что он сравнил, или мне за то, что я позволила – я не понимала.
– А что тут такого?.. – пролопотала я. Вероятно, в тот момент я очень походила на школьницу, упустившую важную подробность в объяснении учителя.
Дора только многозначительно посмотрела на меня и фыркнула. Но и этот взгляд не сумел ответить мне на вопрос: почему я должна позволять что-то или не позволять чего-то любимому человеку? И я так и не поняла, что плохого в том, что я похожа на когда-то любимую Антоном девушку?..
*
На лето Антон уехал к родителям в Ялту, и пригласил к себе Олю. Она приехала почти на целый месяц после окончания практики.
Потом они вернулись в Москву. Оля продолжила учёбу, а Антон приступил к работе в одном не слишком известном московском театре.
Осенью его забрали в армию. Оля сказала только, что будет писать. Разговоров на тему будущего она не любила, и на робкий вопрос Антона: «ты меня дождёшься?» – уклончиво ответила, что в ближайшие два года умирать не собирается.
О том, что у неё есть парень, который должен вернуться из армии будущей весной, она, конечно, Антону не сказала.
*
– Вот же!.. Негодяйка! – я хотела сказать более грубо, но сдержалась только из-за Антона.
– Никакая она не негодяйка, – сказал Антон, – она просто хитрая девочка.
– И что ты, не смог этого разглядеть?
– Мне тогда не хватало жизненного опыта, а тем более, в отношениях с женщинами, – сказал Антон, изменившимся, как мне показалось, голосом. – Я верил всем, как себе самому.
– А ты… и она?.. – начала я, но не находила нужных слов, – ну, вы с ней?..
Антон улыбнулся и опустил глаза.
– Нет, – сказал он, – если я тебя правильно понял, то мы с ней не, мы только целовались.
– А как ты узнал об этом… ну, про её парня?
– Она написала мне о нём через полгода, когда и вернулся тот парень, – сказал Антон. – Она раскаивалась и говорила, что я ей близок и дорог, что я ей очень нравился, но любит она другого, и что тот другой не сможет понять и принять нашей с ней дружбы. Поэтому она прощается навсегда.
– Так значит, и время, и расстояние были ни при чём?
– Ни при чём, – сказал Антон.
– Зубы заговаривал мне, значит!.. – Я хотела обидеться, но не нашла в себе сил на это. – Зато я поняла, почему реву… – сказала я и снова чуть не разревелась.
– И почему же ты ревёшь?
– Я боюсь, – сказала я и посмотрела на Антона с мольбой.
Мы сидели друг против друга за кухонным столом.
– И чего же ты боишься? – он улыбался.
– Не смейся! – Прикрикнула я.
– И не думаю, – спокойно сказал Антон.
– Я боюсь, что ты меня не дождёшься.
Произнеся это, я вдруг оказалась перед той самой ситуацией, которая призраком маячила в моём сознании… нет, скорей – в подсознании. Сейчас она словно реализовалась, будучи озвучена, и на меня из углов поползла пугающе холодная чёрная пустота – даже озноб пробежал по коже. Я съёжилась и закрыла лицо ладонями. И опять зарыдала.
Почему Антон не попытался успокоить меня каким-то иным образом, кроме слов – не обнял, не погладил по голове, например, просто не протянул руку и не прикоснулся ко мне?..
Теперь-то я знаю, почему.
А тогда я ждала этого, потому и ревела. Ведь так всегда делал папа в подобных случаях… Его крепкая тёплая ладонь служила самым надёжным укрытием от любой беды.
– Так, – сказал Антон строго, – завтра иду в деканат и прошу освободить тебя от практики! Причину придётся назвать без обиняков: абсолютная беспомощность восемнадцатилетней девицы и её неумение жить без родительской опеки.
– Не надо, – прогундосила я в носовой платок, – скажи только, что ты не уйдёшь к другой, пока меня не будет.
– К другой уходят мужья или любовники, а я тебе отец, как никак. – Он поднялся из-за стола. – Всё! Мне надоели твои нюни!
Я посмотрела на него снизу вверх, как щенок, которому дали поесть и пообещали ночлег: благодарно и заискивающе. Видела бы Дора!.. Но мне было плевать сейчас на все её Правила Поведения Женщин В Присутствии Мужчин.







