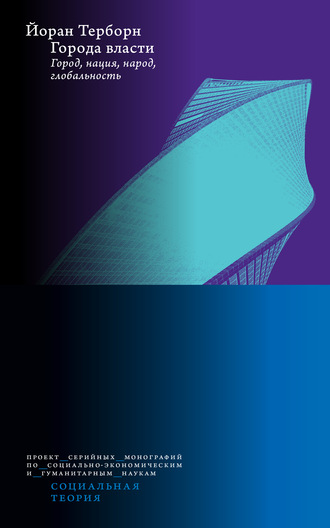
Йоран Терборн
Города власти. Город, нация, народ, глобальность
Романская Европа: национальные государства и религиозные организации
Все основные мировые религии являются древними. Соответственно, в их расхождении с Модерном нет ничего странного. Удивительно, однако, то, насколько редко они выступали против национализма и национального государства. Значимые конфликты между национальным государством и организованной религией ограничены, по сути, романской Европой. Во внутренней борьбе постепенно формирующейся современной национальной Европы высшие представители клира, любых христианских деноминаций, обычно примыкали к силам консерватизма и антимодерна, закладывая тем самым основания для специфической секуляризации Европы, произошедшей в ХХ в. Однако нации на стадии своего формирования оставались в культурном плане чем-то двусмысленным, и европейское духовенство также играло важную роль в национальных движениях, прежде всего в мультирелигиозных государствах, где правящий принц исповедовал другую религию – будь то ислам в случае османских Балкан, православие в царской Польше и на Балтике, католицизм в габсбургской Богемии или же протестантизм в Ирландии. Выше я обратил внимание на деисламизацию Балкан, и к этому можно добавить, что после Первой мировой войны новое польское государство приказало взорвать православный собор Александра Невского, расположенный в центре Варшавы.
Католическая церковь, с точки зрения строителей новых национальных государств, была виновна в двух главных грехах, не считая ее (тогдашнего) воинственного консерватизма. Во-первых, это была наднациональная власть и иерархия, требующая повиновения надгосударственному руководителю, папе. Во-вторых, она была чрезвычайно богата, являясь крупнейшим феодальным землевладельцем и собственником недвижимости. Неприятие такой ситуации, наряду с теологическими спорами, в значительной мере объясняло Реформацию во многих странах от Швеции до Англии, заложившую основу для мощных ренессансных монархий, обогатившихся благодаря экспроприированному имуществу Церкви. Французская революция в плане идеологии возникла из Просвещения с его сильными рационалистическим и деистическим течениями. Разрыв революции с Церковью начался с выдвинутого первой требования, согласно которому французское духовенство должно было поклясться в верности национальной конституции, но папа отказался пойти на это.
Исторический конфликт национального государства и Церкви сегодня можно увидеть в двух знаковых зданиях Парижа – в Пантеоне и храме Сакре-Кёр. Пантеон (надпись на входе: «Великим людям благодарная отчизна») построен на закате династического режима как обетная церковь Святой Женевьевы, а в национальный мавзолей превращен в 1791 г. Первыми сюда были перенесены останки Вольтера, Мирабо и Руссо. Здание было заново освящено Наполеоном I, который закончил конфликт революции с Церковью, но при Июльской монархии оно снова стало национальным некрополем; заново освящено племянником Наполеона, Наполеоном III, и окончательно десакрализовано Третьей республикой по случаю государственных похорон Виктора Гюго. Ослепительно-белая базилика Сакре-Кёр, стоящая на вершине Монмартра, была построена Церковью (первоначально с одобрения государства) как знак покаяния и искупления за спровоцированное революцией моральное падение Франции, за которое она понесла наказание в виде поражения от пруссаков и которое нашло выражение в грехах Парижской коммуны, радикального восстания 1871 г., начавшегося на Монмартре.
Столкновение между национальным государством и католической церковью оказалось наиболее очевидным в Италии, часть которой напрямую управлялась папой, в том числе Рим. Французская армия спасла папскую власть от революции 1849 г. и от объединения Италии в 1860 г. Однако из-за угрозы военного поражения от Пруссии французские войска в 1870 г. ушли из Италии, а итальянские войска вступили в Рим после кратковременной бомбардировки Ворот Пия. Национальное государство забрало себе дворцы папского двора и администрации, а также значительную часть многочисленных монастырей и обителей. Главный дворец папы, Квиринал, стал королевским, а после Второй мировой войны – президентским дворцом. Национальный сенат и палата депутатов разместились (и размещаются по сей день) в ренессансных дворцах, использовавшихся папским правительством. На новой улице, улице ХХ сентября (дата вступления вооруженных сил Италии в папский Рим), были построены здания для новых национальных учреждений.
Папа укрылся в Ватикане, организованном вокруг базилики Святого Петра, т. е. в меньшей части города, который оказался теперь разорванным надвое. «Против их [национальных] конгрессов и обществ [мы выдвигаем] другие общества и конгрессы», – заявил папа[119]. Гвельфские (пропапские) силы сохранили определенную роль в Риме, однако у антиклерикалов была поддержка со стороны национального правительства. В 1889 г. последнее одержало важную символическую победу: был открыт памятник Джордано Бруно на Кампо-деи-Фиори, где в 1600 г. инквизиция сожгла его как еретика[120].
У того факта, что национальные парламенты Португалии и Испании размещены в бывших монастырях, есть особый исторический контекст. Оба монархических государства были разорены вследствие французского вторжения и британских интервенций в наполеоновский период, которые привели к полувеку (в случае Испании) или целому веку (в случае Португалии) династической конкуренции, гражданских войн между королевскими абсолютистами и либеральными конституционалистами, военных переворотов и контрпереворотов. В середине 1830-х годов в обеих странах у власти были либералы и антиклерикалы. По налогово-финансовым, а также политическим причинам национальные правительства упразднили религиозные ордена, высвободив их обширные земли для рынка, и экспроприировали значительное число монастырей в Лиссабоне и Мадриде. Несмотря на многочисленные политические повороты и злоключения, эти меры закрепились. Наибольшее влияние они оказали на Лиссабон, где роспуск религиозных орденов позволил найти здания не только для сената и палаты депутатов, но также для армейских учреждений, судов, префектуры, национальной консерватории, национальной библиотеки, академии наук, а также главного вокзала Санта-Аполония[121].
Городская политика и городское пространство
Национальные столицы были в гораздо большей степени национальными, чем муниципальными, однако тот или иной вид муниципального самоуправления стал частью постабсолютистской программы XIX в., и даже в папском Риме с середины века было отчасти выборное муниципальное правление[122]. Париж, столица национальных революций с 1789 по 1871 г., играл особенно важную роль, и с самого начала революций Отель-де-Виль (ратуша) стал важным местом встреч и переговоров. Однако город как таковой никогда не был важным институциональным игроком. Брюссель относился к донациональному поясу городов Европы, который шел от Италии до Нидерландов и который никогда не был объединен территориальной государственной централизацией[123]. Готическая ратуша на его Гран-Плас высится над зданиями габсбургского имперского представительства, что стоят на другой стороне площади. В бельгийском Брюсселе действовала самая, вероятно, сильная для Европы XIX в. мэрия[124]. Имена двух наиболее важных мэров, Жюля Анспаха и Шарля Бюлса, увековечены на бульварах, составляющих ось города, идущую с севера на юг. Ратхаус Вены – одна из наиболее впечатляющих ратуш этой эпохи, она была построена богатой городской элитой. К тому же Вена – первый город Европы, где появился мэр – демагог и «популист», два года отклоняемый императором, – Карл Люгер из партии христианских социалистов, которого мы все еще помним по одной из частей Рингштрассе, названной Карл-Люгер-Ринг[125].
Пространственное устройство старых европейских столиц существенно изменилось. В некоторых городах, особенно в Вене и Копенгагене конца 1850-х годов, перестройка стала следствием национальной политики и перемен в военных технологиях, которые означали устаревание городских стен и гласиса – открытого поля перед ними шириной в выстрел. В то же время подобная дефортификация была произведена и в Париже, но дальше от центра, в результате чего такие пригородные деревни, как Бельвиль, Берси, Монмартр и Ла-Виллет, оказались в черте города, но план последнего изменился незначительно[126]. В Париже процесс превращения «укреплений» в «бульвары» начался еще в конце XVII столетия[127]. Однако в 1840-х годах вокруг Парижа было построено новое оборонительное кольцо, которое сохранялось до 1919 г. и только в 1960-х годах превратилось в Периферик, окружную дорогу. В Лондоне стены снесли к середине XVIII в. В Берлине снос начался примерно в то же самое время, однако по финансовым причинам стали строить «акцизную стену»[128]. Стена вокруг Рима не считалась препятствием для расширения национальной столицы, хотя она помешала возникновению пригородной периферии вокруг папского города[129].
Развитие национальной политики разного толка привело к преобразованию городского пространства, в большей степени согласовав его с ее запросом на пространства репрезентации, с необходимостью контролировать волнения толпы и потребностью в открытых коммуникациях, обеспечивающих оборот товаров и людей. Гомо- или гетерогенность образовавшейся в итоге искусственной среды зависела от возможностей планирования и контроля земельной ренты. В Европе, по крайней мере в истории Нового времени, существовало четыре основных режима планирования. Наиболее строгий – Париж Османа, т. е. режим, явленный в бульварах со строениями одной и той же высоты и в одном и том же стиле, с длинными горизонтальными рядами балконов из кованого железа. Второй – берлинский строительный устав (Bauordnung), определяющий правила по высоте застройки, соотношению размеров зданий и ширины улиц, но не по стилю. Лондон – третий пример, это режим островного планирования частными (в основном аристократическими) инвесторами кластеров гомогенных сооружений, организованных вокруг площади, а в остальном достаточно свободных, хотя и с некоторыми ограничениями (до самого последнего времени) по высоте. В-четвертых, существует совершенно либеральный афинский план, которому в основном следует и венская Рингштрассе, определяющаяся по большей части крупными частными инвесторами, их вкусами и тем, каких архитекторов они нанимали. Национальные правительства задавали тон в планировании большинства национальных столиц, за немногими исключениями, среди которых Брюссель, Копенгаген, Рим и Стокгольм. Берлинское и венское национальные правительства проявляли достаточно ограниченный интерес к этому вопросу[130].
Ensanche (расширение) было ключевой категорией, описывающей изменения центрального городского пространства[131]. Осман использовал яркий глагол «éventrer» (буквально – «вспороть живот»)[132]. Главной задачей являлось улучшение циркуляции людей, товаров и воздуха. Результатом стал новый план из длинных, широких, обсаженных деревьями проспектов с просторными тротуарами и эффектными зданиями, а также больших площадей (в том числе круговых), на которых, как правило, возвышался какой-нибудь национальный памятник. Это еще не были автомобильные трассы, как в американских городах ХХ в., сделавшиеся на какое-то время привлекательными и для европейских архитекторов. Не считая Балкан, наиболее серьезные перемены произошли в Париже и Брюсселе. Венская Рингштрассе стала образцовым кольцом, однако на центре города, имперском и церковном, она никак не сказалась. Расширение Мадрида заняло много времени, что было связано с политической нестабильностью, тогда как Лиссабон и Будапешт были вскоре переориентированы на новые центры – соответственно проспект Свободы и проспект Андраши. Центральный Берлин – скорее в прусские, чем германские времена – был перестроен главным архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем вокруг Дворцовой площади с Дворцовым мостом, соединяющим Унтер-ден-Линден и Люстгартен со Старым музеем. Бранденбургские ворота были тогда западной оконечностью города. К западу от Тиргартена находился другой город, Шарлоттенбург, включенный в Большой Берлин в 1920 г.; еще при Бисмарке началось строительство осевой магистрали Западного Берлина, Курфюрстендамм, ставшей впоследствии главной. В центральном Лондоне главная реконструкция была произведена сразу после наполеоновской эпохи – благодаря Риджент-стрит и Трафальгарской площади.
Национальным государствам были нужны новые и, главное, общественные здания, особенно на Балканах, где лишь немногие османские сооружения признали приемлемыми, – здания парламентов, министерств, судов, самых разных национально-культурных институтов, музеев, театров, опер, концертных залов, библиотек, университетов, а также здания для средств сообщения: почты, телеграфа, телефона (последние нашли для себя великолепную резиденцию в мадридском Дворце связи, недавно переданном городскому совету), наконец, вокзалов, из числа которых особенно выделяются парижский Северный вокзал и лондонский Сент-Панкрас.
В XIX и начале XX в. было построено удивительно мало новых зданий парламентов, что говорит о глубоких исторических корнях европейского Модерна: Лондон, Будапешт и Берн (последний – в государстве малого масштаба) были единственными столицами с показательными парламентскими зданиями. На Балканах, в Берлине, Брюсселе, Кристиании/Осло, Стокгольме и Вене они по-прежнему сильно уступали дворцам монархов или, по крайней мере, были второстепенными по сравнению с последними. В Гааге, Лиссабоне, Мадриде, Париже и Риме для размещения парламентов были перестроены уже существовавшие здания, а в Афинах и Копенгагене новые парламентарии сначала въехали в качестве квартирантов в королевский дворец. В Брюсселе после строительства первого ряда зданий для нового национального королевства, когда королевский дворец все еще превышал стоявший напротив парламент, был построен огромный Дворец правосудия, ставший национальным памятником.
Городские и коммунальные услуги – электроэнергия, водопровод, транспорт и т. д. – развивались очень быстро, но неравномерно. Особенно много сил было потрачено на системы канализации, которые подверглись значительной нагрузке из-за быстрого роста населения, показателем чего стало Великое зловоние на Темзе в 1858 г. В период с 1860 по 1878 г. в Париже было построено почти 400 км подземных канализационных сетей в дополнение к уже существовавшим 228[133]. Однако парижские достижения были отодвинуты на второй план Джозефом Базэлджетом, главным инженером Лондонского городского управления строительства, которое построило 1300 миль канализационных сетей[134].
Европейские столицы за немногими исключениями, среди которых самым крупным был Рим, являлись центрами национального капитализма и его все более процветающей буржуазии. Это означало появление совершенно новых жилых районов, таких как изящные кварталы (beaux quartiers) в западном и северо-западном Париже или Лондоне, кварталы вдоль новых больших бульваров (grands boulevards) – Курфюрстендамм в Берлине или проспект Андраши в Бухаресте, а также появление роскошных жилых зданий с отдельными входами для слуг или особняков в Лондоне и Амстердаме. Подъем европейских национальных государств тесно «коррелировал» – если взять в кавычки непростые вопросы причинно-следственных связей – с развитием крупного промышленного и банковского капитализма. Это привело к появлению новых типов импозантных частных зданий – помимо фабрик, которые часто строились не только из соображений функциональности, но и чтобы произвести впечатление, это были биржи (самую большую построили в Будапеште), головные офисы банков и промышленных предприятий, универсальные магазины. Промышленный капитализм поставил также новую проблему для городской политики, а именно жилья для рабочих.
Капиталистическое экономическое развитие сдвинуло фактические границы города и преобразовало все городское пространство в целом, хотя исторические центры – в меньшей степени. Спекуляции на недвижимости стали в XIX в. важной формой экономической деятельности. Лондонский Сити заявил себя в качестве центра мировых финансов, а Доклендс прославился как крупнейший в мире порт. В Берлине появился свой Банковский квартал – на Беренштрассе рядом с Унтер-ден-Линден. Биржа стала центральным зданием в Париже и Брюсселе. По перифериям разрастались огромные рабочие районы, часто в виде трущоб, почти без удобств и с множеством самодельных бараков, как в третьем мире ХХ в.
Архитектура национальных столиц не выходила в общем и целом за рамки унаследованного репертуара европейских стилей, которые по-разному акцентировались и комбинировались. Неоклассицизм и неоготика господствовали в большей части центральных общественных зданий, хотя присутствовал и историзм собственно XIX в., а также неоренессанс и необарокко. Под эгидой национализма старые стили приобретали, как мы уже отмечали, национальные интерпретации.
Однако европейский буржуазный национализм породил или поддержал и некоторые новые стили. Самым важным был, как это ни странно, стиль, выступающий противоядием против развивающейся стандартизированной, индустриальной эпохи машин, которой противопоставлялись изогнутые линии, цветочные декорации и яркие цвета. Скорее, это было даже особое семейство родственных стилей, известных в разных частях Европы под разными именами: ар-нуво во Франции (также известен как модерн) и Бельгии, модернизм в Каталонии, сецессион на территориях Габсбургов, югендштиль (стиль юности) в Германии и Скандинавии, «Искусства и ремесла», свободный стиль или ар-нуво в Британии.
К концу XIX – началу XX в. этот стиль стал особенно популярен в среде недавно разбогатевшей национальной буржуазии на периферии Европы, прежде всего в Барселоне, был хорошо представлен в Брюсселе, Праге и Риге, несколько меньше – в Глазго. В основном он использовался для частных жилых зданий, но также мог применяться и в модных магазинах, а иногда и в общественных сооружениях, таких как Народный дом в Брюсселе или Муниципальный дом в Праге. В Финляндии получил развитие национальный романтизм, использующий тяжелый и грубый серый гранит, в основном при строительстве общественных культурных зданий, таких как церкви и музеи. Набирающий силу венгерский национализм иногда находил выражение в венгерском ориентализме[135].
Национальные столицы Европы, флагманом которых выступил Париж начала Третьей республики, стали источником своего рода «мании статуй». В период 1870–1914 гг. в Париже было возведено 150 статуй, не считая других видов мемориальных памятников[136]. Эта традиция, восходящая к античному Риму, в Средневековье была во многом забыта, но возродилась при Ренессансе в форме монархического самовосхваления. Теперь же памятники посвящали национальным лидерам, героям и звездам – политикам, генералам, ученым и художникам самого разного толка.
Империалистические страны Европы превозносили свои империи в качестве национальных достижений. В национальных музеях выставлялись колониальные трофеи и демонстрировались завоевания – наиболее известным примером стали экспонировавшиеся в Британском музее мраморные статуи из афинского Пантеона. Во многих столицах существовали официальные колониальные музеи, в том числе в Амстердаме, Брюсселе и Париже. На Всемирных выставках были специальные колониальные павильоны, а в 1931 г. в Париже прошла масштабная «Международная колониальная выставка»[137]. На Трафальгарской площади установили памятники двум генералам, командующим победоносными военными операциями Британии в Индии (Чарлзу Нейпиру и Генри Хэвлоку). В Мадриде в 1893 г. разбили площадь Колумба с его статуей – вдоль новой оси, которая идет с севера на юг, Пасео-де-ла-Кастеллана. Фрески в копенгагенской Ратуше прославляют датские колонии, начиная с Вест-Индии и заканчивая Гренландией. В ХХ в. в период между двумя мировыми войнами авторитарное правительство Португалии увековечило память о ее морских «открытиях» и завоеваниях XVI–XVII вв. в крупном ансамбле у реки Тахо. В Риме времен Муссолини прославляли завоевание фашистами Эфиопии и была проложена большая улица в честь империи – Виа деи Фори Империали. Названия улиц напоминают нам о колониальных подвигах: например, в берлинском районе Далем – об участии Германии в подавлении китайского Боксерского восстания. Особенно широко колониальное именование улиц, чаще всего географическое, но иногда также в честь колониальных губернаторов и командующих, распространилось, судя по всему, в Нидерландах. Оно началось с Гааги, любимого прибежища датских колониалистов в 1870-е годы, но пика достигло в Амстердаме, где насчитывается 63 улицы с колониальными названиями[138].



