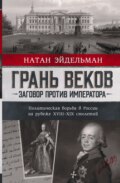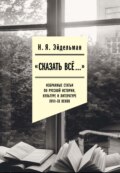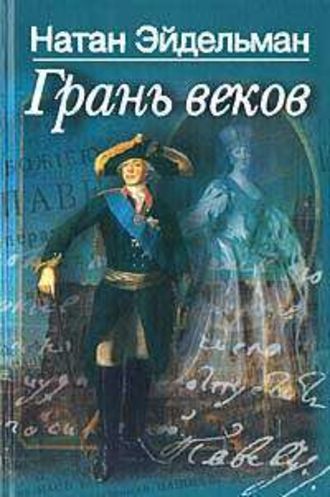
Натан Эйдельман
Грань веков
Существовала даже смутная версия, будто на ужин явилось несколько арестантов, выпущенных по приказу Палена из тюрьмы.
Итак, Пален пьет… здоровье нового императора.
Некоторые офицеры смущены, все молчат и ждут объяснения: только теперь, перед самой развязкой, карты раскрыты. Еще и еще раз вспомним беседу Пестеля с Паленом; прибавим и оценку Чарторыйского, понявшего тот ужин как способ «дать заговору созреть только среди двух-трех главарей и довести его до сведения многочисленных участников драмы только тогда, когда наступил момент исполнения».
Что происходит в следующие минуты?
Согласно Беннигсену и Чарторыйскому, была речь Платона Зубова; по екатерининской традиции (заговорщики ведь именно к ней обращались) Зубов здесь человек самый важный, ответственный – глава мятежного клана. В его речи основное – ссылка на Александра Павловича, санкция наследника на то, что сейчас произойдет.
Здесь центральное ядро всего эпизода: Зубов и Пален отпускают вперед грехи десяткам офицеров – именем завтрашнего Александра и вчерашней Екатерины; между прочим, доносится фраза о невыполненном завещании царицы – передать трон внуку, минуя Павла (формула завтрашнего манифеста Трощинского!).
Позже за Валерианом Зубовым запишут слова (очевидно произнесенные в полночь с 11 на 12 марта): «Императрица Екатерина формально приказала его брату Платону и ему смотреть на Александра как на их единственного законного монарха, служить только ему с непоколебимым усердием и верностью. Так именно они и поступали».
Присяга новому царю еще при старом – это важнейший элемент последнего собрания заговорщиков, о чем мало вспоминают мемуаристы, исследователи. Меж тем молчание современников связано со щекотливостью ситуации по отношению к новому царю. Завтра, когда рядовые заговорщики увидят плачущего Александра, все перемешается в их сознании: значит, обман! Он не хотел! Однако дело сделано…
Впрочем, и Пален с Зубовыми понимают, что, пользуясь именем Александра, представляют роль наследника весьма широкой, преувеличенной, более активной, чем тому бы желалось…
Опять мы видим в действии сложный механизм «двойного самозванства»: заговорщики идут с именем Александра, реальный же Александр не совсем совпадает с образом, который представлен заговорщикам, и еще более – не желает совпадать.
Однако дело сделано. Призрак, фантом Александра сработал, и это такая же часть процедуры, как ленты, мундиры, ордена… Да Александру уж и самому не разобрать, что произошло действительно с его ведома и что – вопреки его воле…
Итак, об александровском вдохновляющем имени большинство участников и современников той ночи предпочтут позже умалчивать, и потомкам представляется порою довольно упрощенная картина: офицеры пьют – затем идут убивать Павла.
Однако в высшей степени интересны соображения интимного собеседника Александра I и некоторых заговорщиков: «Пункт об отречении остался неясным; вероятно, каждый истолковал его себе по-своему, не очень стараясь вникать в него или же оставляя свою мысль при себе». Снова напомним, сколь по-разному (по крайней мере на словах!) трактовались наследником и заговорщиками такие коренные формулы, как отречение, регентство, новый император…
Осенью 1801 г. Лагарп будет безуспешно советовать Александру I взять, пусть с опозданием, всю ответственность за 11 марта на себя и судить цареубийц за превышение данных им полномочий. Век спустя немецкий историк найдет, что прямое выступление Екатерины II во главе заговора 1762 г. было более верным способом не выпустить управление стихией из своих рук, и прибавит: «Александр не имел мужества сам участвовать в заговоре и тем спасти отца». Эта не лишенная резона, но все же прямолинейно-наивная оценка совершенно исключает потаенное и в то же время хорошо угаданное Паленом желание Александра «умыть руки»; мечта наследника «спасти отца» существовала, наверное, только в той степени, в какой гибель Павла могла бросить тень на него самого…
Рассказывая о финальном ужине у Талызина, мы как бы раскладываем его на отдельные «медленные» элементы. Меж тем, согласно очевидцам, все шло быстро, ошеломляюще: ужин без генералов; Зубовы, Пален объявляют, что Павел будет свергнут именем Александра… Третий элемент возникает сразу – в вопросах подвыпивших офицеров, в ответах непьющих генералов.
Как поступить с Павлом?
Сложим воедино все быстрые, перебивающие друг друга голоса.
Пален говорит об английском примере – душевно больном Георге III, при котором учреждено регентство. Палену возражают, что царь может сопротивляться, – следует ответ, слишком многими услышанный, чтобы не быть сказанным.
Саблуков: «В конце ужина, как говорят, Пален как будто бы сказал: «Напоминаю, господа, чтобы съесть яичницу – нужно сначала разбить яйца»».
Козловский: «Заговорщики спрашивали Палена, как поступить им с императором. На это отвечал он им французской поговоркой: «Когда готовят омлет, разбивают яйца»».
Коцебу, правда, утверждает, что эти слова были произнесены уже около дворца, но никто ведь не мешал генерал-губернатору еще раз повторить поговорку. На пиру у Талызина она, во всяком случае, выглядит уместнее…
Некоторые из заговорщиков не удовлетворились ответом-афоризмом и постарались уточнить, что же Пален имеет в виду. Однако никто не услышит, чтобы осторожный генерал-губернатор произнес хоть слово об убийстве. После фразы об омлете и яйцах (согласно принцу Евгению) собравшиеся «пришли к единому мнению» и, «предусматривая, что Павел подчинится только насилию, решили заключить его в Шлиссельбург».
Итак, ясная формула о Шлиссельбурге; но притом допускающий самое широкое толкование рецепт насчет омлета… Зубовы и Пален, как уже говорилось, воздействовали на присутствующих не только устными заверениями, но и письменным документом – «манифестом № 1» Трощинского. Но тут уж к нам доносится спор о судьбе монархии и страны после переворота. В калейдоскопе разгоряченных мнении говорится всякое, например об опасности самодержавия вообще. Здесь присутствует князь Яшвиль, который несколько месяцев спустя напишет Александру о «несчастной России, которая со времени кончины Великого Петра была игралищем временщиков и, наконец, жертвой безумца. Отечество наше находится под властию самодержавною – самою опасною изо всех властей, потому что участь миллионов людей зависит от великости ума и души одного человека».
В ночь на 12 марта чаще восклицают, что нужен лишь хороший царь, а не конституция, и все же одно из крайних мнений было высказано столь громко, что не было забыто.
«Говорят, – пишет Саблуков, – что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла; что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше всего было бы отделаться от них всех сразу».
Саблуков верно понимает значение этого эпизода: как элемент переворота 11 марта он ничтожен; подобные мысли были совершенно чужды большинству заговорщиков. Однако уже само произнесение подобных слов (невозможных в 1741 или 1762 гг.) – это симптом нового вольнодумства. Пусть слова сказаны под влиянием вина, возможно, за ними нет подлинного глубокого убеждения, и все же сказано громко, сообщено другим, запомнилось…
Николая Бибикова упоминает среди заговорщиков и Вельяминов-Зернов; Беннигсен в эту ночь встретит «одного офицера по фамилии Бибиков во дворце вместе с пикетом гвардии». Племянник Беннигсена, правда, запишет за дядей! «…Бибиков с ротой семеновцев», однако в Семеновском полку не было в это время ни одного «подходящего» Бибикова. Зато в Измайловском полку, согласно списку офицеров на 28 мая 1800 г., значился штабс-капитан Николай Иванович Бибиков. Этот же офицер в качестве измайловского полкового адъютанта числится и в «Военных списках на 19 октября 1800 года».
Точность рассказа Саблукова, таким образом, подтверждается. Чин полковника, которым мемуарист награждает заговорщика, возможно, был получен гвардейским штабс-капитаном при переходе в армейскую часть или при выходе в отставку. К сожалению, ни по военным спискам, ни по слабо разработанному родословию Бибиковых пока не удалось проследить дальнейшую судьбу этого, может быть минутного, вольнодумца. Известно только, что 29 мая 1801 г. он произведен в капитаны, но утратил должность полкового адъютанта. Близкое родство измайловца с кем-то из декабристов не прослеживается, но, кто знает, не пресекли ль в конце концов карьеру Бибикова те громко сказанные слова, что дошли, естественно, не до одного Саблукова.
Найти еще материалы о Н. И. Бибикове было бы любопытно, но, повторим, не так уж принципиально важно: нельзя настаивать на буквальности саблуковской версии. Рядом с Бибиковым два других Измайловских штабс-капитана – Дмитрий Николаевич Вологовский (в будущем генерал, знакомец Пушкина и Герцена!) и Яков Федорович Скарятин: в ночь с 11 на 12 марта оба действуют и говорят чрезвычайно резко, пусть не в том роде, как Бибиков, но с той же далеко идущей решимостью. Радикализм Измайловских штабс-капитанов мог быть легко перенесен молвою с одного на другого (между прочим, в самом полном списке заговорщиков, составленном по памяти М. Фонвизиным, есть «Волховский, Скарятин», но нет Бибикова).
Припомнив в этой связи и сказанные 11 марта слова Дибича о тех, кто охотнее всего бросил бы в море царскую семью, и не углубляясь больше в неясные подробности, констатируем: крайнее, республиканское мнение или чувство, по крайней мере словесно близкое к тому, что прежде говорилось Радищевым и делалось в революционной Франции, – эта идея легкой вспышкой обозначит свое присутствие в ночь с 11 на 12 марта, исторически предвосхитит важные декабристские слова-мысли.
Однако вернемся снова в «окрестности» Зимнего дворца, к полуночи с 11 на 12 марта.
После разговоров или одновременно с ними офицеры вооружаются. «Из всех уст раздавалось имя Брута» – так запишет Евгений Вюртембергский со слов Беннигсена и Платона Зубова; мы видим, таким образом, большое разнообразие психологических «допингов», увеличивавших решимость мятежников: кроме парадной формы, манифеста и шампанского еще и Прут.
Козловский вспомнит, как Пален повел его в особую комнату со множеством оружия и сказал: «…Мы сен ночью готовимся переменить участь России и низвергнуть с престола тирана. Выбирай себе оружие, которым ты лучше умеешь действовать».
Растерянный Козловский положил за пазуху два пистолета.
В течение получаса или часа, пока ужинают у Талызина, несомненно, являются верные гонцы (выйти же из квартиры, конечно, никому не дают). После полуночи Палену докладывают, что Семеновский и Преображенский полки пришли в движение. Батальон преображенцев Талызин ведет к Летнему саду; Семеновский батальон Депрерадовича подходит к Гостиному двору. Пароль – граф Пален.
Солдат походом ведут ко дворцу. Все мемуаристы сходятся на том, что, получив сигнал о движении полков, Пален тотчас приводит в давно задуманное движение и несколько десятков офицеров, находящихся на квартире Талызина; эти люди – та главная, сокрушающая сила, которая должна вторгнуться в блокируемый дворец, окруженный безмолвно повинующимися солдатами.
Пален делит присутствующих на две партии, как обдумал прежде. Одну партию поведет сам – к парадному входу во дворец. Эта группа, так сказать, официальная: при ней находится генерал-губернатор с правом пресечь любую случайность, например арестовать любого сторонника Павла «именем закона». Другой авторитетный источник поясняет: «Пален и Уваров осуществляли надзор за внешней безопасностью». Как уже говорилось, главная задача шефа кавалергардов – охрана наследника. Но он, как и Пален, имеет официальное право быть в эту ночь везде (должность дежурного генерал-адъютанта!).
Другая партия, отобранная Паленом, – неофициальная, ударная. Формальный глава ее – Платон Зубов, но фактически – Беннигсен. Чуть позже генерал напомнит бывшему фавориту Екатерины, что «уже не время дрожать». Не зря Пален вызвал Леонтия Леонтьевича и не зря опасался, что Зубовы «задрожат». Решимость и твердость Беннигсена – залог успеха; но Платон Зубов при нем как бы представитель покойной Екатерины II.
К нескольким генералам присоединена группа офицеров.
Согласно Вельяминову-Зернову, техника была такова. Пален сказал: ««Покуда, господа, вам надобно разделиться – некоторые пойдут со мною, другие с князем Платоном Александровичем. Разделяйтесь!..» Никто не трогался с места. «А, понимаю», – сказал Пален и стал расстанавливать без разбора по очереди, одного направо, другого налево, кроме генералов. Потом, обратись к Зубову, сказал: «Вот эти господа пойдут с вами, а прочие со мною; мы и пойдем разными комнатами. Идем!» Все отправились в Михайловский замок. И Преображенский батальон пошел туда же скорым шагом».
Однако Пален вряд ли положился целиком на случай; скорее, нашел и включил в колонну Беннигсена тех, кто особенно ненавидел царя и был готов на месть: Яшвиля, Скарятина, Татаринова, Горданова – людей, к которым вождь заговора давно присмотрелся.
Две колонны должны сомкнуться во дворце.
Петербургская полночь. Безмолвно движутся две колонны офицеров и несколько гвардейских батальонов.
Глава XIII
После полуночи
Все спят. Прядут лишь парки тощи…
С. Бобров «Ночь марта 1801»
О той ночи несколько десятилетий рассказывали разные подробности – правдивые, вымышленные, анекдотические, жуткие. Как же в действительности развивались события? Попытаемся восстановить их ход…
Полночь с 11 на 12 марта. 3-й и 4-й батальоны Преображенского полка разворачиваются у Верхнего сада близ Михайловского замка и ожидают 1-й Семеновский батальон. Кроме командира Талызина с преображенцами совсем немного офицеров (по Вельяминову-Зернову – шесть человек). «Мне известно, – замечает мемуарист, – что к одному Преображенскому офицеру (П. С. Рыкачеву), который жил у своего родственника, приехал полковой адъютант Аргамаков с другими офицерами около 11 часов вечера и, остановясь у подъезда, послал звать его к себе в карету. Офицер был в халате и туфлях; он так и пошел к ним. Хозяин квартиры поручил ему звать гостей сих убедительно в комнату, но по прошествии получаса узнал, что они родственника его увезли с собою и что в карету к нему подали всю фруктовую одежду и все вооружение офицерское. Хозяин знал о заговоре, но, так как разговоры об этом прислушались, в досаде, что приятели не взошли к нему, не обратил на это ни малейшего внимания, так что без размышления лег спать».
Прекрасная иллюстрация к беседе Пестеля и Палена: на дело – прямо в халате, а разговоры о заговоре «прислушались», т. е. надоели…
Шесть офицеров на большую Преображенскую колонну, но неподалеку – еще около полусотни…
Две колонны заговорщиков идут разными улицами к Михайловскому замку.
Идти недолго, и мы будто слышим ночное движение офицерских и солдатских колонн: иллюзия народного «парижского» шороха, как перед штурмом Тюильри 10 августа 1792 г. Но только иллюзия…
Колонна Зубова – Беннигсена идет за капитаном Аргамаковым через Садовую к Рождественским воротам Михайловского замка. Однако оставим ее на время и возвратимся, прислушаемся к Преображенским солдатам, окружившим дворец.
«В Верхнем саду на ночь слеталось бесчисленное множество ворон и галок; птицы, испуганные движением войска, поднялись огромною тучею с карканьем и шумом и перепугали начальников и солдат, принявших это за несчастливое предзнаменование». Рассказ об этой ночной птичьей тревоге, о мрачном воронье воспроизводился на разные лады в десятках сочинений. Это воспоминание о собственном страхе, неуверенности.
В Преображенском строю тихие солдатские разговоры: «Куда идем?»
«Господа офицеры разными остротами и прибаутками возбуждали солдат против императора».
«Я слышал от одного офицера, что настроение его людей не было самое удовлетворительное. Они шли безмолвно; он говорил им много и долго; никто не отвечал. Это мрачное молчание начало его беспокоить. Он наконец спросил: «Слышите?» Старый гренадер сухо ответил: «Слышу», но никто другой не подал знака одобрения».
В том ночном строю офицеры осторожно намекают солдатам на близящееся «освобождение от тирана», говорят о надеждах на наследника, о том, что «тяготы и строгости службы скоро прекратятся». Все пойдет иначе. Солдаты, однако, явно не в восторге, молчат, слушают угрюмо, «в рядах послышался сдержанный ропот». Тогда генерал-лейтенант Талызин прекращает толки и решительно командует: «Полуоборот направо. Марш!» – после чего войска машинально повиновались его голосу».
Момент острейший. Позже, при других социально-политических обстоятельствах, у декабристов зайдет разговор: чем привлечь солдат и надо ли среди них вести агитацию?
С народом? Или для народа, но без него самого?
В среде декабристов, как известно, были разные мнения: все сходились на том, что привлечение рядовых необходимо, но расходились в средствах. Сергей Муравьев-Апостол откровенно беседовал с солдатами, особенно со старыми семеновцами. Пестель же склонялся к иной тактике, возражая против слишком раннего посвящения солдат: основная идея, что офицеры прикажут рядовым, куда и на кого идти, и они пойдут. Так вернее.
Декабристы выдвигали лозунги несравненно более народные, чем заговорщики 11 марта, – отмена крепостного права и военных поселений, облегчение службы… Но даже при таких «козырях» боялись, остерегались подключить к своему делу народную стихию. В конце концов и «южане», и «северяне», как известно, выдвинули на первый план в разговорах с солдатами идею хорошего царя – «Ура, Константин!». В ночь же на 12 марта 1801 г. было совсем мудрено убедить солдат, что «хороший царь» – тот, кто придет на место нынешнего. И тем решительнее лидеры заговора прибегают к традиционному использованию слепого солдатского повиновения, механического подчинения: «Кто палку взял да раньше встал…»
Обычное орудие приказа и принуждения перехвачено заговорщиками; сейчас оно не в руках Павла…
Преображенцы застыли в мартовском ночном холоде. Позже подходит и 1-й Семеновский батальон: «Ночью [в семеновские казармы] пришел Депрерадович и, обойдя по шеренгам, стал посредине и самым тихим голосом скомандовал: «Смирно! Заряжай ружья с патронами!» Во время заряжанья их беспрестанно повторял: «Тише, как можно тише». Наконец, довольно медля, спросил: «Все ли готово?» И потом, также весьма тихо, скомандовал: «По отделениям направо, марш!» Господа офицеры, тише нежели вполголоса, скомандовали (…) и путь свой направили к Михайловскому замку, идя сколь возможно медленнее без всякого шума и разговоров. Офицеры соблюдали молчание и рядовым приказывали то же».
Все это оказалось довольно долгим, что и было замечено разными современниками. Даже Гёте знал; что «Депрерадович ( … ) запоздал на 20 минут».
Простодушно-достоверную картину движения семеновцев ко дворцу сохранил рассказ М. Леонтьева: он спал, ничего особенного не подозревая. Приходит солдат, будит: «Ваше благородие, тревога, пожалуйте на линейку». Вскоре батальон, 500 человек во главе с полковым командиром, движется по Гороховой, Мойке, и встревоженные жители, кому запрещено выходить «после зори», выглядывают из окон, но, видя движущуюся массу солдат, в страхе прячутся внутри своих комнат. Во всем – тайна. Правда, поручик Кожин не выдерживает и, откинув надоевший павловский эспантон, произносит: «Не надо тебя! Теперь со шпагой служить надо». Однако Депрерадович, подобно Талызину, не считает нужным говорить лишнее; наоборот, разыгрывается небольшая комедия: солдатам намекают, что в городе «пожар», и адъютант Власов посылается якобы к коменданту – узнать точно, где горит. Власов, прогулявшись неподалеку, возвращается и сообщает: «Пожар в Михайловском замке, и комендант велел идти туда». Большинство верит, но когда подходят во тьме к экзерциргаузу близ замка и не видят огня, то начинают искать другое объяснение, а Леонтьев помнит: многие решили, будто всех «ссылают в Сибирь». Еще через полчаса Депрерадович тихо командует: «От ноги ступай за мной» – и ведет к замку через поднятый мост мимо новой статуи Петра I. Семен овцы видят своих же – 3-й батальон, стоящий во внешнем карауле, но – «ни слова». Замок окружен, рядом преображенцы – и мемуарист помнит, что «во втором часу пополуночи» он с отрядом в 30 – 40 человек замирает у подъезда, «что на Царицын луг», и ожидает дальнейшего…
Третьим же, караульным батальоном семеновцев распоряжаются в эти минуты Пален, Уваров, Валериан Зубов.
Итак, отдельные офицеры, измайловцы, конногвардейцы, кавалергарды, – среди заговорщиков, но без своих солдат: не нужно! Зато преображенцы и семеновцы – у дворца, семеновцы (с некоторой «примесью» преображенцев) – во дворце.
Позже Муравьев-Апостол запишет со слов товарищей: «Семеновцы заняли все посты в замке, кроме внутреннего пехотного караула, находящегося около залы, называемой уборной, смежной со спальней Павла I. Караул этот оставили из опасения, чтобы движением смены не разбудить императора.
На часах стоял рядовой Перекрестов и подпрапорщик Леонтий Осипович Гурко; последний потом рассказывал, что дверь уборной заперли накрепко ключом и, не зная, куда спрятать его, не говоря ни слова, спустили ключ ему под белье; он не успел опомниться, как ощутил неприятное прикосновение металла, скользнувшего по его ноге. При этом часовым было строго приказано безусловно никого не пускать».
Рассказ декабриста содержит обороты «приказано», «заперто»; действует как бы некая абстрактная сила. Так же невидимо устранена возможность случайной тревоги: около полуночи несколько фрейлин (Анна Волконская и другие) обнаруживают, что их комнаты заперты снаружи. В комнате принца Евгения Вюртембергского по-прежнему несколько испуганных воспитателей и друзей, боящихся, что принцу в эту ночь несдобровать. Разумеется, юноше запрещено выходить из его покоев и за ним следят.
Именно в полночь (по некоторым данным – в половине первого) люди Палена должны арестовать Обольянинова, Нарышкина, Малютина, Кологривова, Кушелева, Кутайсова, Котлубицкого.
Кутайсов, которого не нашли у Шевалье, был во дворце; услышав шум, «бросился бежать, выскочил на улицу в туфлях и сюртуке и, достигнув дома г. Ланского на Литейной, спрятался там и не показывался нигде до следующего дня».
«Пронырливый Фигаро, – замечает Саблуков, – скрылся по потайной лестнице, забыв о своем господине, которому всем был обязан».
Кажется, именно в эти минуты близ дворца появляется свободная карета. Пален все предусмотрел: если Павел останется цел, арестантская карета отвезет его в крепость. Позже она пригодится, по для другого.
Итак, вскоре после полуночи заговор обеспечен извне, и спящий Павел уже в двойном окружении караульных внутри замка и гвардейских батальонов вокруг него…
Колонна Беннигсена – Зубова входит во дворец через Рождественские ворота.
В замке
«Длинный Кассиус», – записал Гёте о Беннигсене, рядом Зубовы – Платон и Николай (одноногий Валериан остается с Паленом): «бруты» и «кассии».
Впереди все время Александр Васильевич Аргамаков – 25-летний племянник Дениса Фонвизина, писатель и поэт (поэты, как видим, играют немалую роль в деле), во внутреннем карауле стоит с преображенцами Сергей Марин.
Сколько же за Аргамаковым? Как разделились те 40 – 60 человек, что полчаса назад пировали у Талызина? Согласно хронике Гёте, «20 (офицеров) с Зубовым, 13 – с Паленом»; М. Фонвизин тоже замечает, что за Паленом пошло «меньшее число сообщников».
Из дальнейшего видно, что во дворец попадает примерно столько, чтобы потом (когда колонна расползется, частично рассеется) осталось человек 10 – 15.
Как войти в неприступный Михайловский замок?
Доносятся противоречивые версии, возможно относящиеся к разным эпизодам той ночи или толкующие об одном и том же. У верхних ворот страже будто бы объявляют (Аргамаков или Зубовы?): «Военный совет».
Согласно Вельяминову-Зернову, было проще: часовой-семеновец сделал знак – «проходи!».
У Пушкина – «Молчит неверный часовой…»
Позднейший читатель де Санглена, царь Александр II, как видно живо интересовавшийся подробностями, написал на полях его рукописи, что заговорщики прошли под Воскресенскими воротами – путем, который «выходил к передней комнате императора».
Пален, несомненно, обещал встретить колонну Зубова – Беннигсена во дворце. Что он нужен у главного входа – сомнений не вызывало; но почему же так долго его не видно? Очевидно, он «в первом этаже» – среди бесконечных коридоров (были предположения, что близ комнат Александра и Константина).
Сам Пален объяснит позже Ланжерону, что дал слово наследнику и потому, дескать, не участвовал в финальной сцене: вроде бы сам признается в двоедушии…
Да, Пален предпочитает, чтобы не его руками все завершилось, но притом ему ясно, что мосты сожжены. И, открывая собеседнику (например, Ланжерону) один из мотивов своей медлительности, он, конечно, тщательно умалчивает о другом: не таков был этот человек, чтобы положиться на волю случая. Он ясно понимал, что при всей твердости Беннигсена и азарте следовавших за ним события могут повернуться неожиданно. Невозможно предусмотреть все, что может случиться в огромном здании при сотнях «действующих лиц». Поэтому нет сомнений, что у генерал-губернатора был запасной вариант на случай, если Павел вырвется, позовет на помощь.
Слишком много семеновских и других верных офицеров уже находилось во дворце, и некоторые наверняка получили от Палена особое задание. Потом эту подробность постараются забыть, но все же А. Б. Лобанов-Ростовский, имевший исключительные возможности для сбора секретной информации, оставил следующую непубликовавшуюся заметку: «Офицеры, бывшие в заговоре, были расставлены в коридорах, у дверей, у лестниц для наблюдения. Так, мне известно, что Д. В. Арсеньев, бывший тогда в Преображенском полку… стоял в коридоре с пистолетом. Рискуя головою, заговорщики, по всей вероятности, положили не позволять государю ни спасаться, ни поднимать тревоги. ( … ) Если бы Павлу и представилась возможность спастись из своих комнат ( … ) то жизнь его неминуемо подверглась бы величайшей опасности на каждом шагу, так как заговорщики овладели этою половиной замка».
Сам Пален, думаем, обеспечивал надежность оцепления, гарантировал успех дела, если бы первая попытка сорвалась. Замечания современников и потомков, что он вел «двойную игру», верны не буквально, а «зеркально»: если Павла убьет колонна Беннигсена, значит, Палена при том не будет, он «умоет руки»; если же убийства в спальне не выйдет, дело завершит Арсеньев или кто-либо другой. По приказу вождя заговора, который никто бы не смог подтвердить…
Итак, царь находился как бы в двойном кольце убийц: беннигсеновском и паленском – не уйти!
Шум во дворце
«Смертный отряд», растеряв отставших, уменьшается «наполовину – до двенадцати или до десяти», даже до восьми человек; впрочем, некоторые из отставших еще догонят передовых…
«Беннигсеновцы», «паленовцы», караульные – все это создавало необычный для этого часа шум. Разгораются две тревоги, которые не могли не вспыхнуть.
Тревога Преображенская.
Тревога семеновская.
Преображенцы . Несколько мемуаристов рассказывают примерно одно и то же, расходясь в деталях. Два года спустя вновь поступивший в полк молодой Михаил Фонвизин узнает, что караульные солдаты поручика Марина в нижнем этаже заволновались: они ведь из самого привилегированного, государева батальона, который Павел частенько называет своей «лейб-кампанией». Их действия могли бы если не спасти Павла, то сильно помочь… Суммируя разные рассказы, видим, что Марии дважды или трижды останавливает своих караульных. Сначала к ним прибегает капитан Пейкер – главный начальник караула, семеновский офицер, но введенный в полк из бывших гатчинцев Павла. Он растерялся, спросил совета у офицеров, которые, чтобы выиграть время, посоветовали ему сделать доклад командиру полка, генералу Депрерадовичу, «что он и исполнил очень глупо и очень подробно».
Пейкер уходит сочинять доклад. Марин же командует своим: «Смирно! От ноги!» – и повторяет команду несколько раз. Когда же шум усиливается и караул готов кинуться на помощь царю, поручик-поэт (согласно Вельяминову-Зернову) пускает в ход сильнейшее средство: приставляет к груди одного из гвардейцев шпагу, а затем долгое время «продержал своих гренадер неподвижными, и ни один не смел пошевелиться. Таково было действие … дисциплины на тогдашних солдат: во фрунте они становились машинами».
В Марине (как и в Арсеньеве, Аргамакове) находим неповторимое сочетание жестокого, беспощадного заговорщика с прогрессивным просвещенным поэтом, другом многих будущих «арзамасцев». Снова обращаем внимание на разнородный «человеческий материал», на котором замешано 11 марта, на сочетание старинного переворотства с началами новых идей, с выработкой нового типа, «человека XIX столетия».
Семеновцы . Константин Маркович Полторацкий рассказывает правду (по-прежнему только преувеличивая свою наивность): пробегает один лакей, затем второй – «императора убивают!». «Старший на посту капитан Воронков исчез, я остался один. Второй лакей, дрожа всем телом, воскликнул: „Господин офицер, кто бы вы ни были, завтра станете первым человеком в России: бегите, бегите на помощь к императору, изменники его убивают“. Полторацкий „по некотором размышлении“ обнажает шпагу: „Ребята, за царя!“ Все бросились вверх по лестнице, но наверху показался Пален: „Караул, стой!“».
Более нейтральный и памятливый Михаил Леонтьев в эти минуты мерзнет в наружном оцеплении дворца, но уже на другой день слышат интереснейшие рассказы товарищей и родственников; он запишет (что особенно редко) версию не заговорщика, а сторонника Павла, капитана Воронкова («все сие происшествие, бывшее у них в караульне, сам мне рассказывавший…»). Капитан признается, что его, пьяного, унтер Михайлов разбудил сообщением о лакеях, которые подняли тревогу. Воронков не знал, что ему делать, и решил посоветоваться с Мордвиновым, «главным рундом» (т. е. офицером, обходившим посты), а также с Полторацким (!). Этих офицеров, однако, не оказалось на месте. «Посмотря на часы и видя первый час пополуночи, Воронков решился послать брата моего Владимира [т. е. брата мемуариста, Владимира Леонтьева]»; зеленого юнкера капитан отправляет на поиски ответственного офицера, а сам, не взирая на шум во дворце, не двигается с места (опасаясь: «вдруг все выйдет ложь!»).
«После уже [Воронков] догадался, для чего Мордвинов не ходил к главным рундам, ибо он давал время заговорщикам управляться с Павлом, а Воронкову спать». В подобном же умысле капитан уверенно обвиняет и Полторацкого, но признается, что «догадался после, а не тогда, когда и сам испугался, и видел еще прапорщика Ивашкина, прижавшегося от страха к знаменитому прапорщику Гурке» – тому самому, у кого уж ключ лежал в сапоге. Заговор кругом…