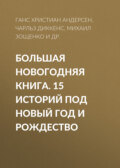Эрнст Гофман
Житейские воззрения кота Мурра
– Вы, – продолжала госпожа Бенцон, – сочтете, пожалуй, воспоминание о полишинеле за юмористическую выходку, не толкуйте же ее дурно. Впрочем, вы легко можете себе представить, что по рассказу девушек обо всем, что произошло в парке, я сразу узнала вас. Юлии не нужно было высказывать такое желание снова вас увидеть: я и без того через несколько минут разослала всех своих людей в парк, велела обойти весь Зигхартсвейлер, чтобы найти вас, так как вы были мне дороги, несмотря на наше мимолетное знакомство. Но все поиски были напрасны – вы исчезли; тем больше было мое изумление, когда вы сегодня пришли ко мне. Юлия сейчас находится у принцессы. Какая борьба разнообразнейших ощущений возникла бы там, если бы девушки узнали сейчас о вашем приходе! Когда вы будете чувствовать себя совсем хорошо, я попрошу вас объяснить мне, что вас привело сюда так внезапно, тогда как я полагала, что вы занимаете прекрасное положение капельмейстера при дворе великого герцога.
Пока советница говорила, Крейслер был погружен в глубокую задумчивость. Опустивши свой взор, он прижал палец ко лбу, как человек, желающий вспомнить что-нибудь забытое.
– Ах, – начал он, когда советница умолкла, – это глупая история и вряд ли стоит ее рассказывать. Но верно, однако, что маленькая принцесса была до известной степени права, сочтя меня за сумасшедшего. Когда я имел несчастие испугать в парке эту маленькую недотрогу, я возвращался с визита, сделанного не кому другому, как его светлости великому герцогу, и здесь, в Зигхартсвейлере, я желал продолжить необычайнейшие и приятнейшие визиты.
– О, Крейслер, – воскликнула советница, слегка улыбаясь (громко она никогда не смеялась), – это опять какая-то странная выдумка: резиденция герцога находится по меньшей мере в тридцати часах езды от Зигхартсвейлера.
– Точно так, – возразил Крейслер, – но ведь гуляют же в саду, стиль которого может приводить в изумление. Если вы, многоуважаемая, не хотите допустить мысли о моей поездке с целью визита, так, по крайней мере, вы можете себе представить, что чувствительный капельмейстер с веселой песней, с гитарой в руках, прогуливаясь по душистому лесу, по свежезеленеющим лугам, пробираясь через дикие каменистые ущелья, через узкие мостики, под которыми с шумом пенятся лесные ручьи – словом, такой капельмейстер, начиная, как солист, песню, которую подхватывают хором тысячи голосов, легко может пройти в ту или другую часть сада, совсем неумышленно, совсем без цели. Точно так вот и я попал в придворный княжеский парк, представляющий из себя не что иное, как маленькую-маленькую часть великого, грандиозного парка, раскинутого самой природой. Но, впрочем, нет! Когда вы недавно говорили, как целый потешный отряд охотников был послан изловить меня, как подстреленного, но убегающего зверя, я получил твердое внутреннее убеждение в необходимости моего присутствия здесь, необходимости, которая фатально должна была осуществиться. Вы изволили упомянуть, что вам дорого знакомство со мною; не должен ли был я вспомнить при этом о злополучных днях смятения и общего замешательства, к которым нас привела судьба? Вы видели меня тогда колеблющимся, растерянным, бессильным принять какое-нибудь определенное решение. Вы отнеслись ко мне с дружеским расположением, благодетельно распростерли надо мной безоблачное небо спокойной женственности, сумели утешить меня, порицая и в то же время прощая мои безумные выходки, приписавши их действию безутешного отчаяния, бывшего следствием суровых обстоятельств. Вы вырвали меня из обстановки, которую сам я считал двусмысленной; ваш дом сделался дружеским, мирным приютом, где я, уважая вашу тихую скорбь, забыл свою. Вы не знали, чем больна моя душа, но ясность вашей души, кроткие ваши речи оказывали на меня действие благодетельного целебного средства. Не суровые угрозы судьбы разрушить мое положение в свете влияли на меня так враждебно. Давно я желал устранить отношения, стеснявшие и мучившие меня. Я не мог негодовать на судьбу, исполнившую то, что сам я не имел мужества сделать. О, нет! Когда я почувствовал себя свободным, меня охватило то несказанное беспокойство, которое с дней моей юности часто создает в душе моей какую-то двойственность. Это проистекающее из самых возвышенных чувств и никогда не покидающее человека, никогда не приводящее к желанной цели стремление, о котором говорит так прекрасно поэт. Нет, во мне кипит безумное смутное желание, которое никак не может выразиться вполне определенно; это какая-то странная темная тайна, это какой-то загадочный сон об утерянном райском блаженстве. Нет, это даже не сон, а предчувствие, которое наполняет меня муками Тантала. Оно овладело мной давно, когда я был еще ребенком. Как часто, бывало, средь самых веселых игр со своими сверстниками я убегал в лес или в горы, бросался на землю и безутешно плакал, несмотря на то, что я был самый отчаянный шалун. Позднее я научился лучше владеть собой, но не был в силах выразить всю муку неизъяснимого душевного состояния, когда, бывало, в самой отрадной обстановке, будучи окружен любящими друзьями, испытывая художественное наслаждение или удовлетворение своего самолюбия, я вдруг чувствовал, что все это жалко, ничтожно, бесцветно, что я как будто нахожусь в безутешной тоскливой пустыне. И есть только один светлый гений, который имеет власть над злым демоном, – это гений музыки. Порою он властно поднимается в душе моей, и перед его могучим голосом смолкают все земные муки.
– Я всегда думала, – проговорила советница, – что музыка действует на вас слишком сильно, то есть пагубно: я видела, как при исполнении какой-нибудь превосходной мелодии все ваше существо, по-видимому, проникалось ей, в то же время черты лица совершенно изменялись. Вы бледнели, вы теряли способность произнести хоть слово. Вздохи теснили вашу грудь, слезы падали из глаз, и, если кто-нибудь решался хоть слово сказать об исполняемом вами музыкальном произведении, вы жестоко насмехались над ним с самой уничтожающей иронией. Даже…
– О, многоуважаемая советница, – прервал Крейслер госпожу Бенцон, мгновенно переменяя серьезный тон на особенный, свойственный ему тон иронии, – теперь все изменилось. Вы не поверите, как я сделался учтив и благовоспитан при дворе великого герцога. С невозмутимым спокойствием и полным добродушием я могу сохранять такт и в «Дон Жуане», и в «Армиде», я дружески киваю примадонне, когда она выделывает удивительные прыжки в сфере каданса; если же гофмаршал, прослушав «Времена года» Гайдна, шепчет мне на ухо: «C’etait bien ennuyant, mon cher maître de chapelle»[24], я с утвердительной улыбкой покачиваю головой и беру из его табакерки солидную щепотку табаку; наконец, я могу терпеливо слушать, если какой-нибудь тонкий эстетический критик-камергер пространно развивает передо мной мысль, что Моцарт и Бетховен понимали в гармонии чертовски мало, а что Россини, Пучитта, и как там еще они называются, воспарили a la hauteur[25] оперной музыки. Да, многоуважаемая, вы не поверите, как я выиграл, как много я приобрел светского лоска во время своего капельмейстерства. В особенности же важно то, что я пришел к прекрасному взгляду относительно необходимости для артиста поступить в услужение! Правда же, в самом деле это лучшее, что можно придумать! Иначе сам черт со своей бабушкой не сладит с этими гордыми, надменными господами. Заставьте добропорядочного композитора сделаться капельмейстером или дирижером, стихотворца – придворным поэтом, живописца – придворным портретистом, скульптора – ваятелем бюстов придворных особ, и вы увидите, что во всей стране скоро исчезнут всякие фантазии: напротив, будут процветать преполезные бюргеры, благовоспитанные и покладистые!
– Замолчите же, Крейслер! – воскликнула советница с недовольством. – Вы опять начинаете капризничать. Однако я теперь ясно вижу, что тут что-нибудь кроется. Мне крайне хочется узнать, какое злополучное обстоятельство вынудило вас к поспешному бегству из резиденции герцога. Об нем свидетельствуют все обстоятельства вашего появления в парке.
– Могу вас уверить, – спокойно отвечал Крейслер, пристально смотря на советницу, – что злополучное обстоятельство, прогнавшее меня из резиденции независимо ото всяких внешних условий, заключалось во мне самом. То самое беспокойство, о котором я недавно говорил, быть может, гораздо серьезнее, чем это было нужно, овладело мной с небывалой силой: мое дальнейшее пребывание при дворе герцога сделалось для меня невозможностью. Вы знаете, как я был рад получить должность капельмейстера. Глупец, я думал, что, живя в мире искусства, имея определенное положение, я заставлю умолкнуть демона в груди своей. Но из немногих указаний относительно моих изучений во время пребывания при герцогском дворе вы увидите, что я жестоко обманулся. Позвольте мне представить вам картину, как мало-помалу я принужден был ясно увидеть все ничтожество своего существования, принужден – пошлым заигрыванием с святым искусством, нелепыми выходками безвкусных дилетантов, бездушных, пустых пачкунов, глупых кукол. Я отправился однажды к великому герцогу, чтобы узнать, в чем будет заключаться мое содействие празднеству, которое было назначено на один из ближайших дней. Персона, заведующая всякими зрелищами, естественно, была тут же и набросилась на меня с целой кучей бессмысленных и нелепых советов и предписаний. В особенности этот господин настаивал, чтобы я аранжировал музыку пролога, который был сочинен им самим и который должен был явиться кульминационным пунктом во всем торжестве. «Так как на этот раз, – обратился он к князю, бросая на меня косвенный уничтожающий взгляд, – речь идет не об ученой немецкой музыке, а об изящном итальянском пении, я сам сочинил несколько нежных мелодий, которые нужно только исполнить надлежащим образом». Великий герцог не только соизволил утвердить все это, но и воспользовался случаем дать мне понять, что он вообще питает надежды на мои старания усовершенствовать мою дальнейшую музыкальную эрудицию посредством ревностного изучения новейших итальянских композиторов. Каким жалким я показался самому себе! Как глубоко я презирал себя! Все эти унижения представились мне справедливым возмездием за мое ребяческое сумасбродное долготерпение! Я оставил замок, чтобы никогда не возвращаться туда. Я хотел в тот же вечер потребовать отставку, но даже это решение не могло доставить мне успокоения, потому что я уже увидел себя подвергнутым какому-то тайному остракизму. Взяв гитару, которая была захвачена совсем для другой надобности, я отослал свою карету и бежал. Солнце склонялось к западу, все шире, темнее становились тени от гор и от леса. Несносной, нестерпимой сделалась для меня мысль о возвращении в резиденцию. «Да и какая сила могла бы принудить меня к возвращению?» – воскликнул я громко. Я знал, что я нахожусь на дороге, ведущей к Зигхартсвейлеру, вспомнил о моем старом мейстере Абрагаме, от которого за день до этого получил письмо, в котором, предчувствуя, каково мое положение в резиденции, он звал меня к себе…
– Как, – прервала капельмейстера советница, – вы знаете этого старого чудака?
– Мейстер Абрагам, – продолжал Крейслер, – был закадычным другом моего отца, был моим учителем, отчасти даже воспитателем! Теперь, достоуважаемая, вы знаете в подробности обстоятельства, которые привели меня в парк князя Иренея. Вы, конечно, не сомневаетесь более, что я, когда нужно, могу с полной исторической подробностью и не без занимательности рассказывать о том, чего сам страшусь. Вообще вся история моего бегства представляется мне, как сказано, такой нелепой и в то же время такой удивительно разумной, что о ней трудно даже и говорить. После всего вышеизложенного не будете ли вы добры, дорогая моя, преподнести испуганной принцессе мой рассказ в виде, так сказать, успокоительного лекарства? Пусть она придет в состояние равновесия и подумает, что держать себя особенно изысканно никак не мог человек, подобный мне, – честный немецкий музыкант, только что надевший шелковые чулки, только что важно кривлявшийся в чудной карете и немедленно обращенный в бегство всякими Россини, и Пучитта, и Павези, и Фьоравенти, и бог знает еще какими ini и itta. Надеюсь, что на прощение можно надеяться! В качестве поэтического созвучия с таким скучным приключением я должен отметить перед вами, о многоуважаемая советница, еще одно обстоятельство: когда я, гонимый своим демоном, хотел бежать прочь, самое сладкое очарование удержало меня. Только что демон со злорадством хотел осквернить в моем сердце заветную тайну, как вдруг мощный гений гармонии распростер надо мной свои крылья и под их мелодический шелест в груди у меня проснулись надежда, отрада и чувство тревожной и сладкой тоски – символ бессмертной любви и вечной юности. Это Юлия пела!
Крейслер умолк. Госпожа Бенцон с напряженным вниманием слушала, что последует дальше. Но, так как, по-видимому, капельмейстер совершенно погрузился в глубокую задумчивость, она спросила не по-дружески холодно:
– Вы на самом деле находите приятным пение моей дочери, любезный Иоганн?
Крейслер вздрогнул.
– Да, я хотел сказать именно это, – проговорил он и притом глубоко вздохнул.
– Ну, в таком случае я очень рада, – продолжала советница. – Юлия может многому поучиться у вас, милый Крейслер, я считаю делом решенным, что вы остаетесь здесь.
– Достоуважаемая… – начал Крейслер, но в то же мгновение дверь отворилась и в комнату вошла Юлия.
Когда она увидела Крейслера, на ее милом лице показалась прелестная улыбка, и легкое восклицание невольно сорвалось с ее губ.
Госпожа Бенцон встала, взяла капельмейстера за руку и, подведя его к Юлии, сказала:
– Вот, дитя мое, это – тот необычайный…
(М. прод.) …юный Понто устремился к новейшему моему манускрипту, лежавшему рядом со мной, схватил его в зубы, прежде чем я успел опомниться, и стремглав умчался прочь. Он испустил при этом злорадный хохот, заставивший меня заподозрить, что не одна только юношеская резвость толкнула его на злодеяние, но и еще что-то другое. Вскоре все сомнения должны были рассеяться.
Через два дня в комнату моего мейстера вошел тот человек, у которого Понто находится в услужении. Как я узнал потом, это был господин Лотарио, профессор эстетики в местном лицее. После обычных приветствий профессор окинул взором всю комнату и, увидев меня, сказал:
– Добрейший мейстер, не удалите ли вы отсюда на минутку этого молодца?
– Почему? – спросил мейстер. – Не нападайте на кошек, профессор, в особенности же на моего любимца, нарядного, умного кота Мурра!
– Да, – проговорил профессор, насмешливо улыбаясь, – нарядный, умный, это верно. Но сделайте мне удовольствие, мейстер, удалите пока вашего любимца, мне нужно сообщить вам некоторую вещь, которой он не должен слышать.
– Кто? – воскликнул мейстер Абрагам, с изумлением уставившись на профессора.
– Да, конечно, ваш кот. Прошу вас, не расспрашивайте меня больше и сделайте так, как я вас прошу.
– Странно, странно, – проговорил мейстер, тем не менее открыл двери кабинета и позвал меня. Я последовал зову, но тотчас же незаметно для мейстера шмыгнул опять в его комнату и спрятался в нижнем отделении книжного шкафа: никем невидимый, я сам мог слышать и видеть решительно все.
Мейстер Абрагам уселся в кресло против профессора и заговорил:
– Скажите же мне теперь ради всего святого, что это за тайна, которую вы хотите сообщить мне и которую не должен знать мой честный кот Мурр?
– Прежде скажите вы мне, мейстер, – начал профессор самым серьезным голосом, – что вы думаете о принципе, сообразно с которым, не имея в виду ни особых прирожденных способностей, ни таланта, ни гения, и рассчитывая только на физическое здоровье и особую систему воспитания, можно из каждого ребенка в течение самого короткого времени, следовательно, еще в года его детства, создать превосходного представителя науки и искусства?
Мейстер Абрагам ответил:
– Что другое могу я думать о таком принципе, как не то, что он нелеп и совершенно бессмыслен. Вполне естественно, конечно, что ребенку, обладающему хорошей памятью и некоторой сообразительностью, какая нередко встречается и у обезьян, можно систематически вбить в голову массу вещей для того, чтобы потом показывать его перед зрителями; только у этого ребенка должен совершенно отсутствовать всякий природный гений, иначе его здравый смысл, его врожденные способности возмутятся против такой зловредной процедуры. Но кто же скажет, что такой односторонний юнец, напичканный всякими крохами знаний, является ученым в истинном смысле слова?
– Весь свет, – воскликнул горячо профессор, – решительно весь свет! Это-то и ужасно! Всякая вера в прирожденную высшую духовную силу, которая одна, только одна, создает истинного научного деятеля, истинного художника, летит к черту благодаря такому злосчастному, нелепому принципу!
– Не горячитесь, – с улыбкой проговорил мейстер. – Сколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии фигурировал только единственный продукт этой воспитательной методы. Некоторое время о нем говорили, потом перестали говорить, увидев, что названный продукт не особенно доброкачественного свойства. К тому же, процветание упомянутого препарата совпало с периодом моды на всяческие раритеты, на всяческих «гениальных» артистов, которые показывали свои фокусы за весьма недорогую плату, – подобно тому, как в цирках показывают фокусы дрессированных собак и обезьян.
– Так говорите вы, мейстер Абрагам, – начал опять свою речь профессор, – и вам, конечно, поверили бы, если бы не знали, что в вас постоянно скрывается некий проказник, что вся ваша жизнь была целым рядом необычайных экспериментов. Сознайтесь же, мейстер Абрагам, что в тиши своего кабинета самым потаенным образом вы готовите эксперимент, который вполне согласуется с упомянутым принципом, но оставит далеко за собой его изобретателя. Вы хотите выступить с вашим воспитанником и привести в изумление и отчаяние профессоров целого света, вы хотите покрыть жесточайшей насмешкой превосходное правило: nоn ex quovis ligno fit Mercurius![26] Словом, этот quovis здесь, но он не Mercurius, а обыкновенный кот!
– Как вы говорите, – воскликнул с громким смехом мейстер, – что вы говорите? Кот?
– Не отрицайте же, – продолжал профессор, – что вы применили вышеупомянутую абстрактную педагогическую методу к вашему коту Мурру, что вы научили его читать, писать, преподали ему науки, так что он уже теперь начал заниматься литературой и сочинять стихи.
– Ну, – проговорил мейстер, – признаюсь, никогда со мной не случалось подобной удивительной истории! Я воспитываю своего кота, я преподаю ему науки! Скажите мне, профессор, какие сны посетили ваш ум? Уверяю вас, что я решительно ничего не знаю об эрудиции моего кота и считаю ее даже совсем невозможной.
– Правда? – протяжно спросил профессор, вытащил из кармана тетрадь, в которой я сразу признал похищенную Понто рукопись, и прочел вслух:
СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСШЕМУ
Я полон весь желанием кипучим,
Таю в груди тревогу и тоску!
Мой дух пришпорен гением могучим,
Уж не готов ли к смелому прыжку?
О, что со мной?
Зачем полна любовью жизнь моя?
И в неустанном, сладостном стремленьи
Зачем томлюсь, зачем сгораю я?
Я увлечен в страну очарованья,
Я полон грез, которым нет названья,
Меня весна лазурная манит.
Приветствую от уз освобожденье,
От мук среди цветов отдохновенье!
О, пусть мой дух на небо воспарит!
Надеюсь, что каждый из добрейших моих читателей увидит мастерство этого превосходного сонета, вылившегося из глубины души моей, и тем больше будет удивляться, если я скажу, что он принадлежит к числу первых плодов моего пера. Но профессор в злобе своей читал его без всякого чувства, так отвратительно, что я еле-еле сам узнал себя в этих строках. Мной овладел порыв моментального гнева, что часто бывает с молодыми поэтами, и под влиянием такого чувства я хотел уже выскочить из своего убежища и вцепиться в физиономию профессора, дабы он познал остроту моих когтей. Однако благоразумная мысль, что мне непременно придется дать тягу, если оба – и мейстер, и профессор – на меня набросятся, заставила меня победить свой гнев; тем не менее я невольно испустил ворчливое «мяу», которое обязательно было бы услышано, если бы мейстер тотчас после того, как был прочитан сонет, не разразился оглушительным хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, еще больше, чем грубость профессора.
– Ого! – воскликнул мейстер. – Действительно, сонет вполне достоин какого-нибудь кота! Но я все еще не понимаю вашей шутки, профессор. Скажите же мне прямо, к чему она?
Профессор, оставляя без ответа вопрос мейстера, перевернул несколько листков в рукописи и прочел дальше:
ИСТОЛКОВАНИЕ
Любовь нескромная на всех дорогах грезит,
О дружбе в тишине отрадно помечтать, Как гость непрошеный, любовь к вам нагло лезет,
А дружбу – надо отыскать.
Звуки сладкие рыдают,
Их стремленья – не унять;
Скорбь иль радость возвещают, –
Сам не знаю, как понять!
Неудержные, несутся
Где-то в дальней стороне!
И откуда раздаются?
Наяву или во сне?
Этим чувствам как излиться?
Как с далеким пеньем слиться,
Чтобы дух мой не страдал?
И куда уединиться –
На чердак или в подвал?
Эти муки неземные,
Эту скорбь любовь дала!
Но настанут дни иные,
И, стряхнувши бремя зла,
Слезы чистые роняя,
Я расстануся с тоской,
И душа моя больная
Обретет себе покой!
Лучше петь протяжно, складно,
Милый кот мой, чем рыдать!
Прочь от мира! Всех вас жадно
Хочет пасть его пожрать!
А под печкой так отрадно
С милым пуделем мечтать!
Сам я знаю…
– Нет, друг мой, – прервал тут мейстер декламирующего профессора, – вы, право же, приводите меня в нетерпение: вы сами или другой какой-нибудь шутник вздумали посмеяться и написали стихи в духе сочинительствующего кота, конечно, моего кота, доброго Мурра, и теперь все время потешаетесь надо мной. Шутка, впрочем, недурна и, вероятно, очень понравится Крейслеру, который не преминет поострить относительно ее, причем в конце концов вы же окажетесь в проигрыше. Но теперь отложите пока в сторону вашу остроумную выдумку и скажите мне коротко и ясно, к чему вы все это затеяли?
Профессор закрыл рукопись, пристально посмотрел мейстеру в глаза и потом начал:
– Эти листы несколько дней тому назад мне принес пудель Понто, который, как вы знаете, находится с котом Мурром в самых дружеских отношениях. Правда, он принес рукопись в зубах, как вообще он привык держать поноску. Однако он положил ее совершенно целой мне на колени и при этом явственно дал понять, что она принесена ни от кого другого, как от его друга, кота Мурра. Когда я заглянул в нее, мне тотчас же бросился в глаза совершенно особенный, своеобразный почерк. Когда же я прочел отрывки из рукописи, непостижимым образом мне пришла в голову странная мысль, что все это написал кот Мурр. Как ни доказывал мне разум, а также известный жизненный опыт, которого никто из нас не может избегнуть и который в конце концов есть тоже разум, что мысль эта нелепа, что кот не в состоянии ни писать, ни сочинять стихи, все-таки я был бессилен отделаться от своего предположения. Я решил наблюдать за вашим котом. Узнавши от Понто, что Мурр часто бывает у вас на чердаке, я вынул несколько кирпичей со своей кровли, так что мне открылся свободный вид сквозь слуховое окно вашего дома, влез на свой чердак и стал наблюдать. Что же я заметил? Слушайте и удивляйтесь! В самом уединенном углу чердака сидит ваш кот, выпрямившись перед маленьким столиком, на котором расположены все письменные принадлежности; сидит, потирает себе лапкой лоб и затылок, проводит ей по лицу, обмакивает перо в чернильницу, пишет, останавливается, опять пишет, перечитывает написанное, ворчит – я это слышу – ворчит и мурлычет от живейшего удовольствия. А вокруг него лежат различные книги, взятые, судя по переплету, из вашей библиотеки.
– Это было бы чертовщиной! – воскликнул мейстер. – Пойду-ка, правда, посмотрю, все ли книги целы.
С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Увидев меня, он отскочил на три шага назад и стал смотреть с удивлением. Профессор воскликнул:
– Вот видите, мейстер! Вы думаете, что ваш приятель спокойно сидит в каморке, куда вы его заперли, а он взял да спрятался в книжный шкаф, чтобы заняться там изучениями, или же, вероятнее, чтобы подслушивать наш разговор. Теперь он слышал все, что мы говорили, и примет, конечно, соответственные меры.
– Кот, – начал мейстер, продолжая смотреть на меня взглядом, полным изумления, – кот! Если бы я знал, что ты, совершенно изменяя честной естественной природе, будешь сочинять такие странные стихи, если бы я мог думать, что ты действительно погонишься за науками вместо того, чтобы гоняться за мышами, я бы тебе все уши оборвал, я бы тебе…
Мной овладел смертельный страх. Приложив уши к голове, я притворился, будто крепко сплю.
– Да нет же, нет, – продолжал мейстер, – посмотрите только, профессор, как беззаботно спит мой честный кот! Есть ли во всем его добродушном лице хоть что-нибудь намекающее на подобные шельмовские проделки? Мурр! Мурр!
На возглас мейстера я не преминул ответить моим обычным «Мрррррр», раскрыл глаза, приподнялся и сделал приятное грациозное движение, вознеся спину высоко вверх.
Профессор, исполненный гнева, швырнул мне тетрадь в голову, я представил (природная хитрость подсказала мне это), что он хочет со мной поиграть, и, прыгая, танцуя, разорвал рукопись на мелкие клочки.
– Ну, – проговорил мейстер, – решено, вы были неправы, профессор, и Понто вам что-то наврал. Посмотрите, как Мурр разделывает стихи, – какой же поэт обращается так с своей рукописью?
– Я вас предостерег, поступайте, как хотите, – возразил профессор и вышел из комнаты.
Я думал, что гроза миновала, как жестоко я ошибался! К крайнему моему огорчению, мейстер высказался против моих научных занятий, и, хотя он сделал вид, что не поверил ни одному слову профессора, тем не менее я заметил, что он начал следить за каждым моим шагом. Он отрезал мне доступ в свою библиотеку, начав аккуратно запирать книжный шкаф, и не стал больше позволять мне лежать на письменном столе среди бумаг.
Так-то печаль и забота посетили мою чуть забрезжившую юность! Что может быть прискорбнее для гения – видеть себя непонятым, осмеянным? Что может озлобить больше всего великий дух, как не препятствия, встреченные там, где он мог ожидать всяческого содействия?
Но чем сильнее давление, тем могущественнее сопротивление: чем туже натянут лук, тем дальше летит стрела! Чтение было мне возбранено, мой собственный дух начал работать свободнее, создавая идеи в самом себе.
Исполненный недовольства в этот период моей жизни, я провел много ночей в подвалах дома, где было расставлено много мышеловок и где сверх того собиралось много котов разного возраста и состояния.
От смелого философского ума не ускользают самые тайные отношения жизни к жизни, и он познает, каким образом из них складывается жизнь в помышлении и в факте. Точно так в подвалах предо мной предстали отношения мышеловок к котам в их обоюдном взаимодействии. Тепло у меня стало на сердце, как у истого благородного кота, когда я осознал, что эти мертвые машины, в их пунктуальной деятельности, поселяют среди котовской молодежи великую лень. Схватив перо, я тотчас написал бессмертное произведение, уже упоминавшееся раньше: «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». В этом этюде я, как в зеркале, представил котовской молодежи всю ее изнеженность: отрекаясь от собственных сил, коты ленивые, бесстрастные, хотя и молодые, спокойно терпят, что мыши презрительно лакомятся шпиком. Своею громовою речью я пробудил всех ленивцев от сна. Наряду с той общественной пользой, которую принесла эта компактная книжечка, сочинение ее имело для меня еще ту выгоду, что я сам не мог ловить мышей, пока писал ее; да и потом, после того как я говорил так властно, так красноречиво, никому не могло прийти в голову потребовать от меня, чтоб я первый своим поведением представил пример провозглашенного мной героизма.
Сим кончаю я первый период моей жизни и перехожу к месяцам юности, в собственном смысле слова, к месяцам, которые граничат со зрелым возрастом. Не могу, однако, не сообщить благосклонному читателю две последние строфы превосходного стихотворения, выслушать которые не захотел мейстер. Вот они:
Сам я знаю: невозможно
Не питать любовных грез
В час, когда звучат тревожно
Соловьи средь спяших роз.
Взор безумный жадно ищет,
Где прекрасная моя
Спит, мечтает или рыщет
Так же страстно, как и я!
Вон я вижу! Где дорожка
Убегает в дальний луг,
Восхитительная кошка
Внемлет воплям страстных мук!
Внемлет зов мой и томится.
Вдруг прыжок, красотка мчится
И спешит ко мне прильнуть!
Так любовь всегда стремится
Пасть скорее к нам на грудь!
О изменчивые грезы
Упоительной тоски!
Но надолго ль эти слезы,
Песни, вопли и прыжки?
Полный сладкого недуга
Прочь бежишь любовных мук!
Жаждешь дружбы, ищешь друга!
Где ты, пудель? Где ты, друг?
Блещут Геспера уборы,
Я устал мечту ласкать,
Я кругом бросаю взоры,
Мчусь и лезу чрез заборы
Дружбу, дружбу отыскать!
(Мак. л.) …в течение этого вечера в таком веселом жизнерадостном настроении, в каком его не видали уже давно. Именно это самое настроение и послужило причиной некоторой неслыханной вещи. Вместо того чтобы вскочить с места и поспешно удалиться, как он раньше всегда делал в подобных случаях, он спокойно и даже с добродушной улыбкой прослушал крайне длинный – и еще более скучный – вступительный акт ужасной трагедии, которую сочинил молодой, исполненный веры в свое призвание, краснощекий и курчавый лейтенант, и отрывок из которой он прочел со всеми претензиями счастливейшего поэта. Правда, когда автор, окончив чтение, стремительно спросил его, как ему нравится произведение, он, внутренне потешаясь и улыбаясь с приятностью, удостоверил юного героя, отличившегося на поле битвы и поэзии, что прочитанный акт, – настоящее лакомое блюдо, преподнесенное изысканным эстетикам-гастрономам, – содержит в себе на самом деле прекраснейшие идеи, за глубину и оригинальность которых ручается уже одно обстоятельство, что эти же идеи высказаны великими признанными поэтами, каковы, например, Кальдерон, Шекспир и современный Шиллер. Лейтенант обнял его горячо, и с таинственной миной сообщил, что этим превосходнейшим первым актом он думает сегодня же вечером осчастливить целое общество изысканнейших фрейлин, среди которых есть даже одна графиня, читающая по-испански и рисующая масляными красками. Услыхав утверждение, что он задумал чрезвычайно похвальную вещь, лейтенант, полный энтузиазма, устремился прочь. Когда он удалился, тайный советник, мужчина маленького роста, проговорил с досадой: