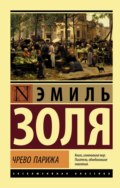Эмиль Золя
Проступок аббата Муре
XIV
В этот час Альбина все еще бродила по Параду в немой агонии, словно раненное насмерть животное. Она больше не плакала. Лицо у нее совсем побелело, глубокая морщина прорезала ее лоб. За что должна она терпеть такую муку? В каком она повинна грехе, что сад внезапно перестал исполнять обещания, которые давал ей с самого ее детства? Вопрошая его, она все шагала вперед и вперед, даже не замечая аллей, мало-помалу погружавшихся в тень. А ведь она всегда была покорна деревьям! Она не помнила, чтобы ей когда-нибудь довелось сломать хоть один цветок. Она по-прежнему оставалась любимой дочерью всех этих зеленых растений, она слушалась их, повиновалась их велениям, вся отдавалась их власти, всем существом своим доверялась тому счастью, которое они ей сулили. Когда в последний день Параду крикнул ей, чтобы она легла под гигантским деревом, она легла и раскрыла объятия, лишь повторяя урок, подсказанный ей травами. Но если ей не в чем упрекнуть себя, значит, это сад предал ее и теперь терзал только ради удовольствия видеть ее страдания.
Альбина остановилась и поглядела кругом. В огромных темных кущах листвы таилось сосредоточенное молчание. Тропинки, вдоль которых высились темные стены, стали непроходимыми тупиками мрака. Вдалеке ровная пелена газона усыпляла пролетавший над нею ветер. И Альбина в отчаянии, с негодующим криком, простирала руки. Не может же это так закончиться! Но голос ее заглох в молчаливых чащах. Трижды заклинала она Параду дать ей ответ, но высокие ветви ничего ей не объяснили, ни один листок не пожалел о ней. Тогда она снова принялась бродить и тут почувствовала, что вокруг нее с роковой неизбежностью надвигается на землю зима. Теперь она больше не вопрошала землю голосом взбунтовавшегося создания; теперь ей слышался шепот, доносившийся с самой земли, прощальный шепот растений, желавших друг другу блаженной смерти. Упиваться солнцем всю теплую пору, всегда жить в цвету, всегда благоухать, а потом, при первом же страдании, уснуть с надеждою прорасти где-нибудь в другом месте, – разве это не достаточно долгая, разве это не наполненная до краев жизнь? Упорствовать в желании продлить ее – значит только испортить прожитое! Ах, как сладко, должно быть, умереть, зная, что тебя ждет впереди лишь одна бесконечная ночь, во время которой можно грезить о кратком ушедшем дне, навеки закрепляя отошедшие мимолетные радости!
Альбина опять остановилась в великой, благоговейной сосредоточенности Параду; но на этот раз она уже не испытывала гнева. Ей казалось, что теперь она все поняла. Сомненья нет: сад уготовил ей смерть, как высшее наслаждение. Именно к смерти вел он ее таким нежным путем. После любви возможна одна лишь смерть. Никогда еще сад не любил ее так сильно! Обвиняя и упрекая его, она выказывала черствую неблагодарность. Она и теперь оставалась любимой дочерью сада. Молчаливая листва, затопленные мраком тропы, лужайки, где дремал ветерок, – все это затихло только для того, чтобы призвать ее вкусить радость долгого безмолвия. Они хотели, чтобы и она погрузилась вместе с ними в холодный покой. Они мечтали завернуть ее в сухие свои листы и так унести с оледеневшими, как вода источников, глазами, с окоченевшими, словно голые ветки, конечностями, с уснувшею, будто растительные соки, кровью. Она станет жить их жизнью до самого конца, до самой их смерти. Быть может, они уже решили, что будущим летом она станет розовым кустом в цветнике, или бледной ивой на лугу, или молодой березкой в лесу… Ей должно умереть: таков великий закон жизни.
И тогда, в последний раз, она принялась бегать по саду в поисках смерти. Какому душистому растению нужны ее волосы, чтобы усилить аромат его листьев? Какой цветок попросит у нее в дар атласную ее кожу, белоснежную чистоту ее рук, нежный оттенок ее груди? Какому больному кусту могла бы она отдать свою юную кровь? Она хотела быть полезной травам, прозябавшим на краю аллей, она хотела бы убить себя так, чтобы из нее проросла великолепная, пышная, жирная зелень, куда в мае слетались бы птицы, а солнце дарило бы ей пылкие ласки свои! Но Параду долго еще оставался безмолвным, не решаясь сообщить ей, в каком прощальном лобзании он унесет ее с собой. Ей пришлось еще раз обойти весь сад, еще раз проделать свое паломничество. Наступила почти полная тьма. Казалось, ночь постепенно врастала в самую землю. Альбина вскарабкалась на большие скалы, расспрашивая их, домогаясь, не на их ли каменных ложах следует ей испустить свой дух. Замедляя шаг от страстного желания смерти, она обошла весь лес, поджидая, не обрушится ли какой-нибудь дуб, чтобы похоронить ее в своем величавом падении. Она обежала луга и, идя вдоль рек, наклонялась почти на каждом шагу, заглядывая в глубину вод – не приготовлено ли ей ложе среди водяных лилий? Но нигде смерть не обращала к ней своего призыва, не протягивала ей холодных своих рук. И все же Альбина не ошибалась! Именно он, Параду, должен был научить ее, как умереть. Ведь недаром же он научил ее любить! Она вновь стала пробираться сквозь кусты, сильно поредевшие по сравнению с тем, какими они были в те теплые утра, когда она еще только шла навстречу своей любви. И вдруг, в то самое мгновение, когда Альбина входила в цветник, она ощутила смерть в вечернем его аромате. И она побежала, смеясь радостным смехом: она должна умереть вместе с цветами!
Сначала Альбина устремилась к роще роз. Там, при последнем свете сумерек, она принялась раздвигать листву и срывать все цветы, томившиеся в предчувствии зимы. Она срывала их вместе со стеблями, не обращая внимания на шипы, она обрывала их прямо перед собой обеими руками, а чтобы достать те, которые росли выше ее, становилась на цыпочки или пригибала кусты к земле. Все это она делала с такой торопливостью, что ломала даже ветки, а ведь прежде она с уважением останавливалась перед самой малой былинкой. Вскоре она набрала полные охапки роз и даже зашаталась под тяжестью своей ноши. Она вернулась в павильон лишь после того, как опустошила всю рощу, захватила все, вплоть до упавших лепестков. Свалив свое цветочное бремя на пол комнаты с голубым потолком, Альбина снова поспешила в цветник.
Теперь она стала собирать фиалки. Она составляла из них огромные букеты, которые прижимала один за другим к груди… Потом набросилась на гвоздику и стала рвать и распустившиеся цветы, и бутоны, связывая гигантские снопы белой гвоздики, напоминавшей чашки с молоком, и красной гвоздики, походившей на сосуды с кровью. Потом Альбина совершила набег на левкои, ночные фиалки, гелиотропы, лилии. Она захватывала пучками последние стебли распустившихся левкоев, безжалостно уминая атласные оборочки цветов. Она опустошила клумбы ночных фиалок, полураскрывшихся к вечеру; сжала, точно серпом, целое поле гелиотропов и собрала в кучу всю свою жатву. Под мышками у нее были связки лилий, огромные, словно вязанки тростника. И, нагрузившись с ног до головы цветами, она поднялась в павильон и свалила возле роз все эти фиалки, гвоздики, левкои, ночные фиалки, гелиотропы, лилии. И, не успев перевести дух, опять сбежала вниз.
На этот раз Альбина направилась в тот печальный уголок сада, который служил как бы кладбищем цветника. Осень была жаркая, и на этом месте вновь выросли весенние цветы. Особенно жадно набросилась она на гряды с туберозами и гиацинтами. Она опустилась среди них на колени и рвала их с алчностью скупца. Туберозы были в ее глазах какими-то особенно драгоценными цветами, словно они капля за каплей источали золото и другие роскошные, необычайные блага. Гиацинты в жемчуге своих цветущих зерен походили на ожерелья, и каждый их перл должен был пролить на нее радости, неведомые прочим людям. И хотя Альбина вся исчезла в груде сорванных ею гиацинтов и тубероз, она все-таки добралась до поля маков, а затем ухитрилась опустошить поле с ноготками. Маки и ноготки она нагромоздила поверх тубероз и гиацинтов и бегом вернулась с цветами в комнату с голубым потолком, оберегая свою драгоценную ношу от ветра, не давая ему похитить ни одного лепестка. А потом вновь сбежала вниз.
Что же теперь ей было срывать? Она собрала жатву со всего цветника. Встав на цыпочки и вглядываясь в еще не совсем сгустившуюся тьму, Альбина видела лишь мертвый цветник, лишенный нежных очей роз, красного смеха гвоздики, благовонных волос гелиотропа. Но не могла же она возвратиться наверх с пустыми руками. И она накинулась на травы, на зелень, она поползла по земле, точно желала в сладострастном объятии прижать к груди и унести с собою и самую землю. Она наполнила подол юбки пахучими растениями – мятой, вербеной, чебрецом. Встретила грядку калуфера и не оставила на ней ни листка. Два огромных пучка укропа она перекинула через плечо, точно два деревца. Если бы это только было в ее силах, она зубами потащила бы за собой всю зеленую скатерть дерна. На пороге павильона Альбина повернулась и бросила последний взгляд на Параду. Уже совсем стемнело, ночь полностью вступила в свои права и набросила черное покрывало на землю. Тогда Альбина поднялась наверх и больше не возвращалась.
Вскоре большая комната сделалась очень нарядной. Альбина поставила на столик зажженную лампу и стала разбирать сваленные на пол цветы, связывая их большими охапками, которые она затем разложила по всем углам. Сначала позади лампы на столике она поставила лилии – высокий кружевной орнамент, смягчавший яркий свет белоснежной своей чистотой. Потом отнесла связки гвоздик и левкоев на старый диван. Его обивка и без того была испещрена красными букетами, увядшими и полинявшими еще сто лет назад. Теперь обивка эта исчезла под цветами, и весь диван превратился в груду левкоев, меж которыми пестрела гвоздика. После этого Альбина придвинула к алькову четыре кресла. Первое из них она нагрузила доверху ноготками, второе – маком, третье – ночными фиалками, четвертое – гелиотропом. Кресла потонули под цветами и казались огромными цветочными вазами; только кончики ручек выдавали их настоящее назначение. Наконец Альбина позаботилась и о кровати. Она подтащила к изголовью небольшой столик и навалила на него огромную охапку фиалок. А затем засыпала постель всеми сорванными ею туберозами и гиацинтами так густо, что цветы гроздьями свисали со всех сторон: возле изголовья, у ног, в промежутке от кровати до стены, повсюду. Вся кровать превратилась в огромную цветочную груду. Между тем оставались еще розы. Альбина набросала их куда попало, не глядя: на столик, на диван, на кресла. Особенно густо завален был розами угол постели. Несколько минут розы так и сыпались дождем, целыми букетами. Ливень тяжелых, как грозовые струйки, цветов образовал целые озера в расщелинах между плитками пола. Но так как куча роз почти не уменьшилась, Альбина стала плести гирлянды и развешивать их вдоль стен. Гипсовые амуры, резвившиеся над альковом, были теперь украшены гирляндами роз; венки повисли у них на шее, на бедрах, на руках. Голенькие их животики и ягодицы оделись розами. Голубой потолок, овальное панно, обрамленные гипсовыми лентами телесного цвета, источенные временем эротические картины – все это скрылось под розовым покрывалом, под роскошным плащом из роз. Большая комната была красиво убрана. Теперь Альбина могла умереть в ней.
Девушка с минуту постояла, оглядываясь кругом. Она думала и доискивалась: найдет ли она здесь смерть? И она собрала пахучие травы – калуфер, мяту, вербену, чебрец, укроп, она стала мять и рвать их, скрутила жгутами и заткнула ими все самые незаметные щелочки и скважинки в дверях и окнах. Потом задернула грубо подрубленные белые коленкоровые занавеси. И ни слова не говоря, не издав ни вздоха, легла на кровать, на цветочное ложе из гиацинтов и тубероз.
И тогда наступила последняя нега. Лежа с широко раскрытыми глазами, Альбина улыбалась комнате. Как она любила здесь, в этой комнате! И какой счастливою умирала в ней! В этот час ничто нечистое не исходило больше от гипсовых амуров, ничем соблазнительным не веяло от картин с раскинувшимися женскими телами. Под голубым потолком не было ничего, кроме удушающего аромата цветов. И аромат этот был, казалось, не что иное, как запах былой любви, теплота которой все время сохранялась в алькове, но запах, усилившийся во сто крат, покрепчавший почти до духоты. Не было ли это дыхание той дамы, что умерла здесь сто лет назад! А теперь то же самое дыхание уносило в царство восторгов и Альбину. Не двигаясь, положив руки на самое сердце, девушка продолжала улыбаться: она прислушивалась к шепоту ароматов в своей отяжелевшей голове. Все кругом жужжало и шумело. Альбине чудилась какая-то странная мелодия ароматов, и эта мелодия медленно, очень нежно убаюкивала ее. Сначала шла детская веселая прелюдия. Руки Альбины, только что мявшие пахучую зелень, выдыхали едкий запах раздавленных трав и рассказывали девушке о ее шаловливых прогулках посреди запущенного Параду. Потом послышалось пение флейты: быстрые, душистые ноты вылетали из лежавшей на столике возле ее изголовья груды фиалок; эта флейта, казалось, выводила под мерный аккомпанемент благоухавших возле лампы лилий мелодию благовоний, она пела о первых восторгах любви, о первом признании, о первом поцелуе под высокими сводами рощи. Но тут Альбина стала задыхаться все больше и больше, точно страсть хлынула на нее вместе с внезапным вступлением пряного, острого запаха гвоздики, чьи трубные звуки покрыли на время все остальное. Когда послышались болезненные музыкальные фразы маков и ноготков, когда они мучительно напомнили ей о терзаниях страсти, Альбине показалось, что уже наступает последняя агония. И вдруг все утихло. Она стала дышать свободнее и погрузилась в сладостное спокойствие: ее убаюкивала нисходящая гамма левкоев, которая замедлялась и тонула, переходя в восхитительное песнопение гелиотропа, пахнувшего ванилью и возвещавшего близость свадьбы. Время от времени едва слышной трелью звенели ночные фиалки. Потом ненадолго воцарилось молчание. И вот уже в оркестр вступили дышащие истомою розы. С потолка полились звуки отдаленного хора. То был мощный ансамбль, и сначала Альбина прислушивалась к нему с легким трепетом. Хор пел все громче, и Альбина затрепетала от чудесных звуков, раздававшихся вокруг. Вот началась свадьба, фанфары роз возвещали приближение грозной минуты. Все крепче прижимая руки к сердцу, изнемогая, судорожно задыхаясь, Альбина умирала. Она раскрыла рот, ища поцелуя, которому суждено было задушить ее, – и тогда задышали гиацинты и туберозы, они обволокли ее своим дурманящим дыханием, таким шумным, что оно покрыло собою даже хор роз. И Альбина умерла вместе с последним вздохом увядших цветов.
XV
На следующий день, часов около трех, Теза и брат Арканжиас беседовали на крыльце приходского дома и вдруг увидели кабриолет доктора Паскаля. Он мчался по деревне отчаянным галопом. Из-под опущенного верха слышались яростные удары кнута.
– Куда это он так гонит? – пробормотала старуха. – Он себе шею сломает.
Кабриолет подкатил к подножию пригорка, на котором высилась церковь. Лошадь встала на дыбы и разом остановилась. Белая всклокоченная голова доктора высунулась из-под фартука экипажа.
– Серж тут? – закричал он гневным голосом.
Теза подошла к косогору.
– Господин кюре в своей комнате, – отвечала она. – Должно быть, требник читает… Вы хотите что-нибудь сказать ему? Позвать его?
Лицо дядюшки Паскаля перекосилось. Он сделал свирепый жест правой рукой, в которой держал хлыст. Еще больше высунувшись из кабриолета, рискуя вывалиться на землю, он крикнул:
– А-а, он читает требник?.. Нет, не зовите! Не то я его задушу!.. Впрочем, это бесполезно… Да, я хотел сказать ему, что Альбина умерла… Слышите, умерла! Передайте ему от меня, что она умерла!
И он умчался, так свирепо хлестнув лошадь кнутом, что та понесла… Шагов через двадцать он вновь остановился и, опять высунув голову, еще громче закричал:
– Да передайте ему также от меня, что она была беременна! Это ему доставит удовольствие.
Кабриолет снова начал свой бешеный бег. Он мчался по ухабам каменистой дороги, ведущей на холмы Параду. Теза едва не задохнулась. Брат Арканжиас оскалил зубы. В глазах его, устремленных на служанку, блестело свирепое злорадство. Теза так толкнула его, что он чуть не свалился с крыльца.
– Убирайтесь прочь! – кричала она, задыхаясь и срывая на нем свою злобу. – Кончится тем, что я вас возненавижу!.. Как это можно радоваться чужой смерти! Я никогда не любила этой девушки, но когда умирают в ее годы, это вовсе не весело… Убирайтесь прочь! Слышите? Перестаньте смеяться, не то я швырну вам в лицо ножницы!
Около часа назад какой-то крестьянин, приехавший в Плассан с овощами, дал знать доктору Паскалю о смерти Альбины и прибавил, что Жанберна хочет его видеть. Теперь, миновав церковь, доктор немного успокоился. Он облегчил себе душу криком, в котором вылилось все его негодование. Он нарочно сделал крюк, чтобы доставить себе это мрачное удовлетворение. Он упрекал себя в этой смерти, он смотрел на себя как на соучастника преступления. Всю дорогу он, не переставая, осыпал себя проклятиями и утирал слезы, мешавшие ему править лошадью. Он направлял кабриолет прямо на кучи камня, с подсознательным желанием опрокинуться и сломать себе ногу или руку. Когда он выехал на каменистую дорогу, тянувшуюся вдоль бесконечной стены парка, у него вдруг мелькнула надежда. Быть может, Альбина только в обмороке? Ведь крестьянин говорил, что она отравилась цветами. Ах, если бы ему приехать вовремя! Если бы спасти ее! И он яростно хлестал свою лошадь, точно бил самого себя.
День был чудесный. Как и в ясные майские дни, павильон предстал перед доктором весь залитый солнцем. Но на плюще, взбиравшемся до самой крыши, листья местами были, казалось, покрыты ржавчиной, и вокруг гвоздик, росших еще там и сям, посреди скважин, уже не жужжали пчелы. Доктор поспешно привязал лошадь и толкнул калитку. В садике царила всегдашняя тишина. Обычно здесь сидел со своей трубкой дядюшка Жанберна, но сейчас старика не было на его излюбленной скамейке перед грядами салата.
– Жанберна! – крикнул доктор.
Никто не ответил. Тогда доктор вошел в переднюю, и его глазам открылось нечто, не виданное им никогда: в глубине коридора, под черной лестницей, была распахнута дверь, которая вела в Параду. Огромный парк, освещенный бледными лучами солнца, крутил в воздухе пожелтевшие листья, выставляя напоказ свою осеннюю печаль. Доктор Паскаль перешагнул порог и двинулся по сырой траве.
– А, это вы, доктор! – ровным голосом сказал Жанберна.
Старик крупными взмахами заступа рыл яму у подножия шелковичного дерева. Заслышав шаги, он выпрямился во весь рост. А потом снова углубился в работу и одним движением поднял огромную глыбу жирной земли.
– Что это вы там делаете? – спросил доктор Паскаль. Жанберна опять выпрямился. Он отер пот со лба рукавом куртки.
– Рою яму, – ответил он просто. – Она всегда любила сад. Здесь ей будет хорошо спать.
Доктор задохнулся от волнения. С минуту он молча стоял у края могилы и только глядел, как Жанберна работает заступом.
– Где она? – спросил он наконец.
– Там, наверху, в своей комнате. Я оставил ее на кровати. Хочу, чтобы вы выслушали ей сердце, прежде чем я уложу ее сюда… Я-то уже слушал – не бьется.
Доктор поднялся наверх. В комнате все оставалось по-прежнему. Только открыли окно. Увядшие, задохшиеся в собственном аромате цветы издавали теперь лишь вялый запах мертвой зелени. Но в алькове еще оставалось тепло, удушье наполняло комнату и словно распространялось по ней тонкими струйками дыма. Альбина, бледная как полотно, сложив руки на груди, улыбаясь, спала на ложе из гиацинтов и тубероз. Она была счастлива, она была мертва! Доктор встал у кровати и долго смотрел на нее пристальным взором ученого, который пытается воскресить мертвеца. А затем даже не захотел трогать ее сложенных на груди рук и только поцеловал ее в лоб, в то место, на которое легло едва заметной тенью материнство Альбины. Внизу, в саду, все еще мерно и глухо стучал о землю заступ Жанберна.
Однако через четверть часа старик поднялся наверх. Он кончил свое дело. Доктор сидел у кровати, погрузившись в такую задумчивость, что, по-видимому, даже сам не замечал крупных слез, медленно скатывавшихся по его щекам. Оба только обменялись взглядом. Помолчав, Жанберна медленно произнес:
– Видите, я был прав! – Он снова сделал широкий жест рукой. – Нет ничего, ничего, ничего… Все только пустой фарс!
Он наклонился и стал подбирать упавшие с кровати розы, а затем по одной клал их на платье Альбины.
– Вот цветы живут какой-нибудь день – и конец, – сказал он. – А дурная крапива, вроде меня, крошит даже камни, среди которых растет… Ну, а теперь баста, теперь я могу и околеть! Отняли у меня последний луч солнца. Да, все только пустой фарс!
Старик уселся. Он не плакал, он одеревенел от отчаяния и походил на автомат с испорченным механизмом. Машинально он протянул руку и взял со столика, усыпанного фиалками, какую-то книгу. То был один из разрозненных томов с его чердака, томик Гольбаха, который он читал утром, пока сидел у тела Альбины. Доктор по-прежнему молчал, подавленный горем. Старик принялся перебирать страницы. Вдруг его осенила мысль.
– Если вы поможете мне, – сказал он доктору, – мы с вами снесем ее вниз да и похороним со всеми ее цветами.
Доктор Паскаль содрогнулся. Он объяснил, что так хоронить покойников не разрешено.
– Как так не разрешено! – закричал старик. – Ну, в таком случае я сам себе разрешу!.. Разве она не моя? Не думаете ли вы, что я позволю попам отнять ее у меня? Пусть только сунутся, я их из ружья попотчую!
И он встал, угрожающе размахивая книгой. Доктор схватил его за руки и сжал их, заклиная старика успокоиться. Он долго говорил, говорил все, что приходило на ум. Обвинял себя, бормотал какие-то полупризнания, смутно намекал на тех, кто убил Альбину.
– Слушайте, – сказал он наконец, – она теперь уже не ваша! Придется отдать ее им.
Жанберна упрямо качал головой. Но было заметно, что он колеблется. В конце концов он произнес:
– Ладно. Пусть берут ее, и пусть ее гроб переломит им руки. Мне бы хотелось, чтобы она там вышла из-под земли и все они подохли бы со страха… К тому же у меня есть одно дельце, которое надо с ними уладить. Я пойду туда завтра… Прощайте, доктор! Яма останется для меня.
И когда доктор ушел, Жанберна уселся у изголовья покойницы и торжественно продолжал чтение своей книги.