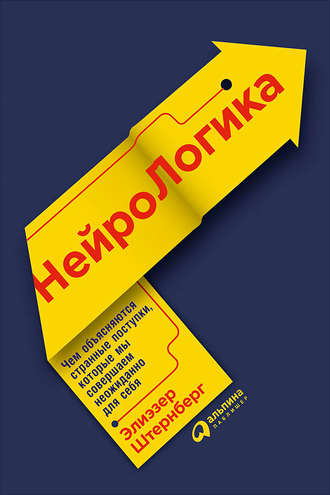
Элиэзер Штернберг
Нейрологика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя
Зрение слепых
Соседи мистера Вейлера не на шутку встревожились. Восьмидесятисемилетний вдовец, живущий один, потерял зрение из-за макулодистрофии[9], которая у него развивалась уже много лет. Для людей его возраста это заболевание – типичная причина слепоты. Тревога соседей достигла новых высот, когда он сообщил, что снова начал видеть… неожиданные вещи. Последние полгода он встречал у себя дома людей, которых не узнавал и которые с ним не заговаривали. Неделю назад к нему в кухню вломился медведь. Время от времени мистер Вейлер видел, как у него в гостиной пасется скот. Звери смотрели на него, тихо пожевывая траву, которая росла прямо из ковра. Мистер Вейлер также упомянул, что видел у себя дома стайку голубых рыб, быстро плавающих от стены к стене.
Соседи переживали, что у этого славного пожилого джентльмена развивается деменция. Однако мистер Вейлер пребывал в здравом уме. Он признавал, что это видения, и особо не беспокоился. Комплексное неврологическое обследование показало, что дело совсем не в деменции. Симптомы, которые наблюдались у мистера Вейлера, соответствовали диагнозу «синдром Шарля Бонне».
Когда мы слышим слово «галлюцинация», на ум сразу приходит психиатрическое или неврологическое отклонение (или потребление наркотиков), но у мистера Вейлера не было никаких проблем с мозгом. Синдром Шарля Бонне – это состояние, при котором люди видят богатые зрительные галлюцинации не из-за неврологических проблем, но из-за зрительных. Такое случается с теми, кто полностью или частично ослеп. Приступы галлюцинаций могут длиться от нескольких секунд до почти целого дня и годами то появляться, то проходить. Содержание галлюцинаций варьируется, но обычно в видениях присутствуют люди, животные, здания и геометрические фигуры. Многие пытаются изобразить свои галлюцинации. Художник Сесил Райли, например, зарисовывал свои видения, в которых вокруг него появлялись синие и зеленые глаза и с угрозой смотрели на него.
А вот еще одна зарисовка, сделанная пациентом (не художником) с макулодистрофией и синдромом Шарля Бонне. Он описывал, что видит «удлиненное лицо с непропорционально большими зубами и ушами».

Синдром Шарля Бонне наблюдается у 10 % пациентов, страдающих заболеваниями органов зрения, безотносительно к их возрасту и причинам этих заболеваний. Почему же это происходит? Возможно ли, что мозг с помощью галлюцинаций заполняет пробелы, вызванные ухудшением зрения? Треугольник Канизы учит нас тому, что мозг всегда стремится ликвидировать пробелы, что все воспринимаемое нами может отличаться от того, что нас окружает в действительности. И все-таки видеть несуществующий белый треугольник и наблюдать, как в твоей гостиной пасется домашний скот, – это далеко не одно и то же. Когда мы рассматриваем оптические иллюзии, мы не галлюцинируем. Наш мозг расширяет и углубляет картинку благодаря визуальным подсказкам. Галлюцинации же возникают исключительно в нашем сознании.
То, что синдром Шарля Бонне развивается у ослепших людей, – не случайность. Все дело в ухудшении зрения. Исследовательская группа в Лондоне наблюдала за активностью мозга во время галлюцинаторных приступов. Ученые собрали группу из шести пациентов с этим синдромом и попросили их сообщать время начала и окончания приступа, а сами стали наблюдать за мозгом испытуемых. У всех участников эксперимента были серьезные нарушения зрения, поэтому большую часть времени аппарат МРТ фиксировал слабую активность в их зрительной коре. Однако, когда один из них сообщил, что у него начались галлюцинации, в его затылочной доле вдруг обнаружилась невероятная активность; когда приступ закончился, она пропала.
Аппарат МРТ обнаружил еще кое-что. С помощью BOLD-сигнала удалось разобраться, какие из «процессоров», обрабатывающих зрительные сигналы, участвовали в создании видений.
При синдроме Шарля Бонне зрительная кора активируется сама собой, сигналы от глаз в нее не поступают. Существует две теории касательно того, почему это происходит. Первая такова: из-за отсутствия зрительных сигналов нейронам зрительной коры становится нечего делать, и они активируются спонтанно. Теория состоит в том, что скучающие нервные клетки периодически порождают нерегулярные электрические импульсы. Информация от органов чувств больше не регулирует работу зрительной коры, из-за чего та начинает создавать свои собственные сигналы. Это и приводит к «разгулу галлюцинаций» – проявлению симптомов синдрома Шарля Бонне.
Такие галлюцинации могут быть вызваны даже временным нарушением зрения. 3 сентября 2004 года молодую женщину во время восхождения в Альпах ударила молния. Женщина упала и потеряла сознание. Когда же пришла в себя, выяснилось, что она ничего не видит. Спасатели на вертолете доставили ее в больницу. Компьютерная томография показала, что в затылочной доле пострадавшей скопилась жидкость, которая и мешает видеть. А ночью у пациентки начались галлюцинации. Она увидела в глубине комнаты пожилую даму, опершуюся на батарею. Потом дама начала уменьшаться. Она делалась все тоньше и тоньше и в конце концов исчезла, соскользнув в одно из отверстий батареи. Галлюцинации возникали в самое разное время. Как-то пострадавшей привиделся ковбой на лошади, который несся прямо на нее и стрелял из ружья. Позже она увидела двух докторов, они занимались сексом у нее в палате, а потом пытались ее избить. Но как только жидкость удалось откачать, зрение вернулось, а галлюцинации исчезли.
Даже если слепота краткосрочна, отсутствие зрительной информации, судя по всему, провоцирует мозг на сочинение собственных историй. Нейроны зрительной коры, лишившись работы, начинают активироваться без причины. Мозг ошибочно принимает эти вспышки за зрительные сигналы – ведь они приходят от зрительной коры. Этот механизм схож с механизмом сна, только во сне спонтанные сигналы возникают в мозговом стволе, а здесь зрительная система сама заполняет причудливыми видениями пробелы, появляющиеся у пациентов из-за слепоты. Образы, созданные зрительной корой, достигают сознания, и тогда пациенты воспринимают их. Они видят галлюцинации – и такие реалистические, что кажется, будто все происходит на самом деле.
Но есть и вторая теория относительно того, почему незрячие люди подвержены синдрому Шарля Бонне. Она основывается на нейропластичности[10] – мощной взаимосвязи, характерной для нашей нейронной сети. Мы привыкли думать, что пять наших чувств друг с другом не связаны, но мозг считает иначе. Он не понимает, чем отличаются друг от друга зрительные, слуховые и осязательные сигналы, если не учитывать того, что они попадают в мозг разными путями. Если на пути нет никаких преград, информация оказывается в нужной мозговой области. Все сведения в мозгу трансформируются в электрохимические сигналы. Нейроны не знают, для чего нужны те данные, которые они принимают и передают. Цепи нервных клеток организованы в отдельные пути – и именно поэтому мы и испытываем пять разных чувств: видим глазами, чувствуем запах носом и т. д.
Хотя у каждого сенсорного канала свой маршрут и чаще всего пути изолированы друг от друга, есть у них и точки пересечения. Должны же они быть, верно? В конце концов, мы испытываем все пять чувств одновременно, и они создают единую картину мира. Представьте, как вы пьете кофе. Вы не только одновременно наслаждаетесь его вкусом и запахом, но и чувствуете губами край чашки, видите ее и слышите звук собственных глотков. Каждое чувство безупречно соединяется с другими, создавая симфонию ощущений от утреннего заряда кофеина. Пять систем не смогли бы создать настолько многогранное ощущение, работай они отдельно друг от друга. Сенсорные пути должны где-то пересекаться.
Итак, на дорожном полотне зрительной коры есть въезды и съезды, которые связывают ее с другими системами мозга. А теперь представьте человека, который ослеп. По законам нейропластичности из бездействующих зон нейронные связи должны переместиться в активные. Когда человек слепнет, зрительный путь начинает постепенно разрушаться, поскольку затылочная доля перестает получать зрительные сигналы от глаз. Дорога пустеет. И тогда единственным источником транспортного потока становятся въезды, соединяющие зрительную систему с другими. Небольшая часть зрительной коры, связанная с другими системами, увеличивается, а остальная ее часть атрофируется. В результате связь между неактивным зрительным путем и другими, не связанными со зрением, системами мозга крепнет.
Поскольку сенсорные пути пересекаются, некоторые незрительные сигналы попадают в затылочную долю, которой может показаться, что они идут от глаз. Не забывайте, что мозг не умеет отличать один тип сигналов от другого. Ему важно лишь, по какому пути поступают данные. Поэтому, если маршруты, которые изначально шли отдельно друг от друга, соединяются, сигналы, посылаемые другой сенсорной системой, могут просочиться в зрительную кору, которая обработает их как зрительные. Это может быть запах цветов в саду или звук поезда метро. Если сигнал, каким бы он ни был, попадает в зрительную цепь, могут возникнуть галлюцинации.
К счастью, люди, страдающие синдромом Шарля Бонне, осознают собственную слепоту, а потому понимают, что все видимое ими нереально. Префронтальная кора не перестает работать, как это происходит во время сна, поэтому человек может осмыслить причудливость видений. Но что бы произошло, не знай они о собственной слепоте? Такой расклад получил название синдрома Антона – Бабинского, о котором мы упоминали во введении к книге. Мы вкратце рассмотрели историю Уолтера, который отрицал собственную слепоту. Когда его попросили описать внешность рослого и подтянутого невролога, Уолтер со всей уверенностью назвал его маленьким толстяком. При наличии этого синдрома в мозгу человека теряется связь между зрительной системой и теми областями, которые отслеживают ее деятельность. Но пациенты этого знать не могут и ошибочно полагают, что их зрение работает исправно. И потому, начнись у них галлюцинации, как у тех, кто страдает синдромом Шарля Бонне, их мозг не смог бы распознать ирреальность видений. Многие из пациентов с диагнозом «синдром Антона – Бабинского» принимают собственное воображение, образы, возникающие у них в сознании, за реальное зрение. Вероятно, именно поэтому Уолтер выдумал такое описание доктора. Его мозг подсознательно, сам того не ведая, компенсировал невозможность зрительного восприятия.
Если все в самом деле так, и исчезновение зрения действительно может привести к галлюцинациям, не должно ли то же самое происходить и с остальными чувствами? Не вызывает ли, скажем, повреждение слуховой цепи слуховые галлюцинации?
Давайте рассмотрим случай мистера Паше. Ему пятьдесят два, и он уже давно слышит звон в ушах. Мистер Паше приехал в центр психического здоровья, обеспокоенный странным новым симптомом. За несколько предыдущих недель привычный звон у него в ушах превратился в пронзительный прерывистый писк, похожий на сигнал будильника. Этот звук поднимал его посреди ночи. Временами он затихал, но на смену ему приходила музыка. Иногда мистер Паше слышал попурри из разных хитов – не только мелодию, но и вокальные партии, а иногда – классические симфонии. Его мозг как будто постоянно ловил сигналы воображаемой радиостанции. Мистер Паше заметил, что очень громкие шумы, например звук проезжающего мимо поезда метро, ослабляли его галлюцинации. Умеренно громкие звуки, напротив, обладали усиливающим эффектом. Так, если на улице он проходил мимо человека, играющего на бонго, музыка в его голове подстраивалась под ритм барабанов.
После неврологического и психиатрического обследований, которые не выявили никаких отклонений, мистер Паше отправился к отоларингологу. Врач решил проверить его слух. Оказалось, что слух у него слабый, причем настолько, что можно диагностировать глухоту. Оказывается, музыкальные галлюцинации возникают у тех, кто потерял слух. Такую ситуацию даже называют «слуховой вариант синдрома Шарля Бонне».
Поскольку активность слуховой цепи была минимальной, мозг мистера Паше стал восполнять дефицит звуков своими силами. Если внешние шумы были громкими, как в случае с проезжающим мимо поездом, мистер Паше слышал их – при заполнении сенсорной пустоты галлюцинации прекращались. Но расслышать не столь громкие звуки он не мог. В то время как его слуховой путь не использовался, подсознание включало «радио» галлюцинаций, чтобы спастись от тишины.
Хотя мистер Паше страдал не от зрительных, а от слуховых галлюцинаций, симптомы развивались так же, как при синдроме Шарля Бонне, чему можно найти аналогичное двойственное объяснение. Во-первых, области мозга, лишившись своих привычных функций, могут начать действовать спонтанно и посылать случайные сигналы. В зависимости от того, происходит ли это в слуховой или зрительной коре, возникают галлюцинации разного типа. Во-вторых, в той зоне мозга, которая становится ненужной, могут разрастись нейронные цепи других систем, в результате чего возникнут новые схемы взаимодействия. Когда сенсорное шоссе пустеет, ранее незначительные въезды с магистралей других чувств становятся основным источником транспортного потока. В результате мозг расширяет это пересечение, добавляет туда больше полос, превращая его в крупный транспортный узел. И вот слуховая кора уже активируется благодаря сигналам, возникшим на совершенно другом сенсорном пути.
Если вам больше по душе компьютерные аналогии, а не транспортные, то представьте, что произойдет, если вы разберете ноутбук друга, достанете материнскую плату и приметесь колдовать над ней. А потом возвратите компьютер другу, который скоро с удивлением обнаружит, что при попытках что-нибудь напечатать из колонок вдруг начинает звучать рэп. Аналогичным образом и мозг может приобретать новые функции по мере того, как его нейронные пути меняются и сливаются. Оглохшему или ослепшему человеку эти нейронные изменения помогают компенсировать сенсорный дефицит. А порой достаточно просто расширить те пересечения, которые уже есть. На самом деле наши чувства переплетены куда теснее, чем может показаться. Спросите Люка Скайуокера.
В вашей височной доле живет Люк Скайуокер
Что для вас имя Люк Скайуокер? Если вы поклонник «Звездных войн», то два этих слова не просто напоминают вам об одном из известных киногероев. Когда вы прочитываете их, они моментально переносят вас в мир научной фантастики, в мир, где добро борется со злом, в одну из центральных сфер поп-культуры. Но что, если вы не читаете, а слышите это имя? Или видите фото Марка Хэмилла, актера, сыгравшего Люка?
Мы выяснили, что нейронные пути наших пяти чувств пересекаются и это может провоцировать развитие галлюцинаций в том случае, если какой-либо из органов чувств перестает действовать. Такие пересечения существуют в каждом из нас. Как же они влияют на восприятие и осмысление всего, что нас окружает? Группа неврологов задалась следующими вопросами. Связан ли тип сенсорной системы, работающей в данный момент, с тем, каким образом наш мозг обрабатывает информацию? Зависит ли метод этой обработки от того, откуда именно приходят данные (от глаз, ушей, носа и т. д.)?
Подсоединив к головам добровольцев датчики энцефалографа, ученые стали наблюдать за нейронной активностью мозга испытуемых. На мониторе последовательно появлялись разные изображения: красивые виды, фотографии известных людей, построек или животных. Наблюдая за показаниями энцефалографа, ученые заметили характерную активность. Она возникла в медиальном отделе височной доли, находящемся рядом с гиппокампом, мозговым центром консолидации памяти. Нейроны медиального отдела височной доли продемонстрировали, что каждая из категорий изображений вызывала определенную реакцию. Фотографии знаменитостей постоянно активировали одну область медиального отдела, а фотографии известных зданий – другую.
Аналогичные особенности обнаруживались и дальше. С помощью высокоточных электродов группа ученых попыталась зафиксировать активность отдельных нейронов в медиальной области височной доли. Каждый нейрон реагировал не только на конкретную категорию, но и на определенного человека или место. Один нейрон вспыхивал, отзываясь на фото Дженнифер Энистон. Этот условно называемый дженнифер-энистоновский нейрон проявлял активность, когда испытуемым показывали множество разных ее фотографий, но никак не реагировал на снимки других известных личностей, таких как Джулия Робертс или Коби Брайант. Другой нейрон отзывался исключительно на Хэлли Берри, даже когда она была в костюме Женщины-кошки, которую эта актриса сыграла в одноименном фильме 2004 года. Хэллиберриевский нейрон пробуждался и когда испытуемые просто прочитывали ее имя. Тот же самый эффект наблюдался и в иных категориях. Например, ученые обнаружили нейрон, который активировался, когда показывали изображения или слова, связанные с Сиднейским оперным театром, но не с Эйфелевой или Пизанской башней.
В конце эксперимента ученые увеличили число раздражителей: к фотографиям и надписям они добавили звук. Один и тот же нейрон проявлял бурную активность, когда испытуемым напоминали о Люке Скайуокере разными способами: демонстрировали три разные фотографии Марка Хэмилла, показывали надпись «Люк Скайуокер» и еще произносили это имя мужским или женским голосом.
В то же время на фотографии других знаменитостей, например Леонардо Ди Каприо, как и на написанный, и на прочитанный варианты их имен данный нейрон никак не реагировал. Но, что интересно, он проявил-таки активность, когда испытуемым демонстрировали изображение магистра Йоды – одного из персонажей «Звездных войн».
Очевидно, клетка реагировала не только на самого Люка Скайуокера, но и на идеи или персонажей, тесно с ним связанных, например на его маленького зеленого учителя. Во многих случаях люк-скайуокеровский нейрон отзывался и на изображения Дарта Вейдера. Схожим образом вел себя дженнифер-энистоновский нейрон, когда испытуемым показывали фото Лизы Кудроу, которая вместе с Энистон снималась в сериале «Друзья».
Каждое наше ощущение – это поток информации. И вне зависимости от того, каким путем к нам приходят сведения – через зрение, слух и т. д., перед подсознанием возникает задача интерпретации этих данных с учетом ситуации, а также наших знаний, эмоций и памяти. Из всего этого мозг должен собрать единую и логичную картину мира. Наше подсознание анализирует пять одновременных сенсорных потоков, изучает их, выискивая схожие черты, и на основе того, что мы переживаем, формулирует абстрактные представления, такие, например, как представление о связи персонажей «Звездных войн».
Медиальная область височной доли – главное пересечение всех сенсорных путей. Анатомические исследования мозга приматов подтверждают эту идею – исследования показывают, что в медиальной области височной доли пересекается множество разных нейронных цепей. Позволяя нашим сенсорным путям взаимодействовать, мозг трансформирует полученную информацию пяти видов в осмысленные идеи и приобретенный опыт.
Бывает, что пересечений в мозге слишком много, из-за чего одно чувство мгновенно активирует другое. Лучше всего это демонстрирует феномен синестезии, возникающий, когда сенсорные пути слишком тесно переплетены друг с другом. Например, у некоторых развита зрительно-слуховая синестезия: такие люди ассоциируют определенные звуки с определенными цветами. Эти ассоциации постоянны. Другие рассказывают о зрительно-обонятельной синестезии: к примеру, почувствовав запах лимона, они видят угловатые фигуры, а ощутив запах малины или ванили – круглые. Существует множество видов синестезии, как и типов комбинаций чувств, но все они демонстрируют одну истину: наши сенсорные пути связаны.
Доказательства этой взаимосвязи можно видеть в нашей повседневной жизни. Например, хорошо известно, что потеря обоняния может ослабить вкусовое восприятие. Зрение и слух тоже взаимодействуют друг с другом. Если кто-нибудь обращается к вам издалека, гораздо легче понять, что он говорит, если видно, как движутся его губы. В этом случае два органа чувств даже могут начать мешать друг другу. Лучше всего это иллюстрирует феномен, называемый эффектом Макгурка.
Если включить вам аудиозапись со слогами «ба-ба-ба» и при этом показывать видео, на котором человек одними губами беззвучно произносит «га-га-га», вы четко услышите третий звук: «да-да-да». Это и есть эффект Макгурка, случайно открытый в 1970-х годах[11], когда Гарри Макгурк с коллегами работал над экспериментом по языковому восприятию у младенцев. Бывает и обратный эффект Макгурка, когда звуки, которые вы слышите, влияют на то, что вы видите. В ходе эксперимента испытуемые должны были рассмотреть овалы и описать их размер и расположение, слушая при этом аудиозапись. Когда испытуемые слышали звуки «у-и-и-и-и-и», овалы казались им куда более вытянутыми, чем на самом деле, а звуки «у-о-о-о-о-о» визуально расширяли фигуры.
Наши сенсорные системы созданы для выживания. Изначально проходя параллельными путями, сигналы от органов чувств в конце концов соединяются друг с другом, создавая общую понятийную сеть. Наши чувства сливаются, а в результате получается единое, гармоничное восприятие мира. Это сотрудничество органов чувств не только расширяет наш опыт, но и создает запасную систему на случай, если какой-нибудь из органов выйдет из строя. Когда человек слепнет, другая сенсорная система включается в работу, чтобы компенсировать утрату зрения. Мозг изо всех сил старается восстановить нашу картину мира. Ради этого он даже воссоздает утраченное чувство, комбинируя оставшиеся.


