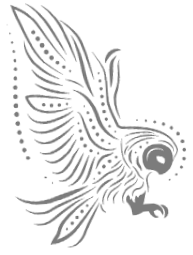Элис Бродвей
Метка
За мужчинами на сцену поднимается городская рассказчица – Мел. Она ненамного старше меня, но на её коже запечатлена история целого народа, она – воплощение наших устремлений, наших целей. Да, если на церемонию пригласили Мел, дело куда серьёзнее, чем я думала.
– Друзья, вы все знаете нашу историю, знаете, как пустые стремились сломить наш дух. Они уничтожали знаки на коже, чтобы лишить души надежды на вечную жизнь. Тело Коннора Дрю покрыто знаками, но душа его – душа пустого. Как и положено обрядчику, он снимал с тела кожу, но вместо того чтобы сшить все лоскуты в книгу, он присвоил немного себе. Украв лоскут кожи, он украл часть истории, поставил под удар путь другого человека в мир иной, изменил то, каким его будут помнить живые. В результате действий преступника совет не в состоянии справедливо судить душу покойного. Так действуют пустые.
Мэр умолкает, но зрители больше не кричат и не аплодируют: они испуганы.
– Друзья мои, я уверен, что поступок Коннора Дрю не был случайным. Этот человек действовал в сговоре с пустыми с целью поднять восстание. Он сознался во встречах с пустыми. Он работал на них.
– Как он посмел? – слышится в толпе.
– Его поступки – явное свидетельство намерений пустых, и это только начало. Мы должны бороться. Пустые вернулись, и наши сограждане помогают им красть нашу кожу, наши истории, наши души. На этом они не остановятся. Им нужны не души – им нужно наше полное истребление. Пустые жаждут добраться до наших земель, и они не успокоятся, пока не получат наши города, наши дома, наши очаги. Им нужна наша земля, и остановятся они, только когда ни у кого из нас не останется дома, как не останется и надежды в этом мире.
Женщина рядом со мной всхлипывает. Не хочу плакать, только не здесь, старательно делаю глубокий вдох и, держа голову как можно выше, отгоняю слёзы. Действительно, ходили слухи, что пустые намерены вернуться и разрушить наш мир. Я не хотела в это верить и не верила – до сих пор.
– Вы знаете нашу историю. Все доказательства хранятся в музее. Когда пустые жили среди нас, они уродовали и расчленяли тела, похищая знаки, истории, души. Эти слабые, низкие люди вгрызались в наши тела в надежде сделать нас похожими на себя. Они хотели побороть нашу силу и праведность и захватить нашу землю. Землю, которую нам дал сам Бог, землю, за которую умер наш Святой. Мы никогда этого не допустим! Да свершится правосудие! Коннор Дрю лишь один из них, один из мятежников, и он станет первым, кто понесёт наказание. Друзья мои, всем известно, что возомнивший себя богом должен быть готов ответить за свои поступки. Этот человек хотел изменить чью-то жизнь после смерти и в ответ потеряет своё право на вечность. Он узнает, что значит лишиться будущего.
Я снова оглядываюсь в безмолвной толпе, меня знобит от холода. Человека на сцене сейчас убьют. Убьют прямо здесь, у нас на глазах. Неужели все собрались посмотреть на казнь? Отчаянно пытаюсь вспомнить, что мы проходили в школе о таких церемониях. Не хочу этого видеть! Кто-то кашляет, люди переступают с ноги на ногу и перешёптываются.
Мэр Лонгсайт невозмутимо смотрит на нас. Он знает, что делает, он уверен в собственной правоте. Надо немного успокоиться. Волноваться не о чем. Закрываю глаза и вспоминаю знаки на коже мэра и слова, которые мы говорили при его назначении. Шепчу их про себя, и становится легче. «Он добр, он мудр, он лучший из нас. Он не жесток, он любит нас, нам нечего страшиться. Он всё сделает ради нас». Не о чем беспокоиться. Нечего бояться.
– Подержите его, прошу вас, – мягко и вежливо обращается мэр к охранникам.
Осуждённого принуждают встать на колени и упереться лбом в деревянную колоду. Опускаю взгляд, но слышу, как тот человек стонет и пытается вырваться из сильных рук. По толпе проносится вздох, и я, не удержавшись, смотрю на сцену. Лонгсайт держит в руках небольшой ящичек. Осторожно открывает его и достаёт нож – короткое лезвие блестит, готовое к работе. Расставив ноги, мэр встаёт позади преступника и хватает его за волосы, задирая голову и оголяя беззащитную шею. Словно мясник ягнёнка. Не хочу этого видеть, но и глаз отвести не могу.
Нож опускается – на землю падает прядь волос. Будто стригут овцу.
От облегчения у меня вырывается полувсхлип-полусмех. Всё в порядке. Его не убьют.
Женщина рядом со мной оборачивается и резко произносит:
– Нечего смеяться, лучше смотри внимательно! Смотри и запоминай!
Осуждённый плачет. Охранники крепко держат его у колоды, но он словно обмяк, ослабел, его битва проиграна, он отдался на волю судьбы. Лонгсайт снова высоко поднимает нож, и на сцену выходит человек в чёрном. Следом помощники несут табурет и столик с какими-то инструментами. Теперь я знаю, что будет дальше. Лонгсайт вытирает нож и кладёт его на место, а человек в чёрном усаживается на табурет и берёт со столика бритву. Он осторожно бреет пленнику затылок, потом снимает чёрные перчатки, выбрасывает и надевает новые. Вынимает знакомую машинку для татуировок, чем-то смазывает оголённую кожу у линии роста волос и принимается за работу, макая иглу в маленькую чернильницу. Осуждённый стонет, но не двигается: охранники держат крепко.
Впереди, в толпе, что-то происходит. Расталкивая зрителей, какой-то юноша прокладывает себе путь к сцене. Охранники оборачиваются, но юношу кто-то оттаскивает прочь. Я вижу его лицо – бледное от ужаса, очки сбились на сторону, и на мгновение мне кажется, что наши взгляды скрестились.
Мастер работает довольно быстро, но всё-таки от дребезжания машинки тупо звенит в ушах. Накатывает слабость, я стою словно в полусне и смотрю, как человек в чёрном наносит знак. Тишина – машинка выключается, чернильщик встаёт на ноги, возвращает прибор на стол и, почтительно поклонившись мэру, уходит.
Мэр Лонгсайт, отступивший в глубь сцены, пока наносили знак, снова выходит к микрофону.
– Друзья мои, на ваших глазах свершилось правосудие. Мы великодушны – этот человек останется жить среди нас. Волосы отрастут и скроют знак. Но сегодня осуждённого отметили знаком Забвения.
Последнее слово пронзает мой застывший разум. Знак Забвения?
– После смерти знак откроют, преступнику вынесут приговор и уничтожат его книгу в пламени во Дворце правосудия.
Как можно жить, получив знак Забвения? Как жить, зная, что всё бессмысленно, что тебя ждут лишь смерть и небытие? Я всей душой надеюсь удостоиться памяти потомков – ради этого мы и живём. Только что на моих глазах надежду человека на вечность зачеркнули чёрными чернилами.
Забытый.
Слово звенит в голове, словно колокольчик, напоминая о чём-то спрятанном в глубине памяти.
– Друзья, пусть эта церемония вдохновит каждого жить достойно, исполняя своё предназначение. Станем жить достойно, чтобы нас помнили. Станем помнить о возмездии.
По толпе пробегает шёпот, перерастая в сдерживаемый рёв. Люди кричат, снова и снова скандируют:
– Ворон! Ворон! Это знак во́рона!
Знак Забвения. Я вспомнила. Я всё вспомнила.
Стон осуждённого сливается с моим, и я бросаюсь домой. Сумка с луковицами бьёт по ноге, под ногтями въелась грязь от картошки.
Ворон! Ворон! Это знак во́рона!
Глава третья

Я бегу через площадь мимо Дворца правосудия и музея и пытаюсь вызвать в памяти папину книгу, страницы которой я листала совсем недавно, вспомнить каждое событие его жизни. Уворачиваясь от встречных, мельком читаю их знаки.
Четырнадцать лет, любит музыку, терпеть не может родную сестру.
Обожает любовницу, врёт жене.
Предпочитает дружить с собакой, а не с людьми.
Пятьдесят шесть лет, но чувствует себя на все восемьдесят: замучили болезни.
Пекарня остаётся позади, я спешу домой, подальше от шума, от какофонии знаков, от хриплого карканья голосов.

В голове всё жужжит и жужжит татуировочная машинка. Знак во́рона. Я совсем забыла о том дне, а вот сейчас вспомнила…
Мне было лет восемь, не больше, – совсем кроха. День клонился к вечеру, мы ждали папу с работы. Я играла на втором этаже, когда раздался стук в дверь, громкие голоса, а потом дверь хлопнула. Я спустилась на кухню спросить, кто приходил, и обнаружила, что первый раз в жизни осталась одна. Открыла входную дверь и выглянула на улицу – вдалеке алела знакомая шаль. Мама шла очень быстро, мужчина рядом с ней то и дело переходил на бег, чтобы не отстать. Я знала, что оставаться дома без взрослых нельзя, и поспешила за мамой, предоставив двери захлопнуться за спиной. Я почти догнала их у поворота к мастерским обрядчиков, где работал папа. Я так и шла сзади, немного поодаль, иногда порываясь крикнуть: «Мама! Мамочка! Я здесь! Ты обо мне забыла?» Но мои губы застыли, и голос отказывался повиноваться.
У стены обшарпанного склада с металлической крышей, склонившись над чем-то, стояли люди. Они расступились, давая маме пройти, и чей-то взволнованный голос произнёс:
– Несчастный случай. Ничего страшного. Гроб соскользнул и попал ему по голове. Как раз новую партию разгружали…
Мама прошла мимо, не обращая внимания на слова. В образовавшийся проход я увидела папу. Он сидел на земле, а кто-то придерживал ему голову, приложив к затылку сложенный в несколько раз кусок ткани. Импровизированная повязка покраснела, папины волосы были влажными. Он открыл глаза и протянул маме руку.
– Всё нормально, милая. Просто ударился. Не беспокой доктора, я отдохну – и всё пройдёт, – поморщившись, проговорил он.
– Ох, Джоэл! Что ты натворил! – В мамином голосе слышались нотки раздражения, не испуга, и я поняла, что с папой всё в порядке.
– Несчастный случай. Никто не виноват. Жить будет, – произнёс кто-то.
Решив, что попадаться родителям на глаза не время, я стремглав помчалась домой. Когда я выбежала за мамой, дверь захлопнулась, но я отыскала полуоткрытое окно и пробралась внутрь.
Мама с папой вернулись только в сумерках. С ними пришла Джулия, мама Ве́рити, моей лучшей подруги.
– Я сегодня посплю здесь, – зевая, сказал отец.
Мама устроила постель из подушек и одеял прямо на полу возле камина, потому что на диване рослый папа бы не уместился. Сидя на лестнице, я прислушивалась к шёпоту в гостиной.
– Я не знала, к кому обратиться, – еле слышно говорила мама. – Он принял обезболивающее, но, по-моему, не помешает наложить швы.
– И зачем ты меня втянула?.. Если Саймон узнает… Не понимаю, почему ты сразу не отвезла его к врачу?
В голосе Джулии слышался гнев или, может быть, страх.
– Это невозможно, ты же знаешь. Прошу тебя, Джулия!
Джулия вздохнула:
– Ты хоть понимаешь, как это опасно? Я ведь не медсестра.
– Никто ничего не видел: он всё закрыл повязкой. А ты постоянно накладываешь швы женщинам. Пожалуйста, Джулия. Нам больше некого попросить.
Спустя некоторое время снова послышалось:
– Вскипяти воды. У тебя есть бритва? Джоэл, приготовься – будет щипать.
Все были так заняты, что обо мне и не вспомнили. Я пряталась у себя в комнате, пока не стихли шорохи внизу. А потом, уже глубокой ночью, выбралась посмотреть, всё ли в порядке. Папина спина вздымалась и опадала, он тихонько похрапывал во сне. Повязка немного съехала – наверное, папа неловко повернулся. Из-под бинтов на голове виднелась кожа. Волосы вокруг раны были сбриты, аккуратный шов пересекал затылок. Пахло целебными травами, кровью и по́том. Бритва открыла папину тайну. Правда вышла наружу.
Тогда я и увидела его. Разорванный пополам, но снова сшитый аккуратными стежками. Старый знак, о котором я не знала.
Знак во́рона.
Глава четвёртая

Вхожу в дом, роняю овощи на деревянный кухонный стол и слышу собственное прерывистое дыхание. Этот преступник, Коннор… Мой папа… Оба отмечены знаком во́рона. Знаком Забвения.
Не могу здесь оставаться. Не могу: скоро вернётся мама. Подхватываю кожаную сумку, набрасываю на голову шаль и отправляюсь в единственное подходящее место.
Мы с Верити дружим очень давно, сколько я себя помню. Я даже знаю, с чего всё началось. Мы появились на свет в одном родильном доме, там наши мамы и познакомились. Верити родилась совершенно здоровой, ей поставили знак рождения в положенное время и отправили домой, а я заболела и получила свой знак лишь несколько недель спустя. Папа вышел на работу, и мама Верити, Джулия, часто заходила к нам, приносила моей маме книги и фрукты, старалась помочь и развлечь. Джулия работает акушеркой. Как-то так вышло, что она стала заботиться и о нас с мамой.
Джулия всегда приносила с собой Верити. В те дни, когда нас кормили и переодевали бок о бок, наверное, и возникла между нами какая-то особенная связь. Из бесстрашия Джулии и стойкости моей мамы родилась крепкая дружба. Мама всегда говорила, что Джулия – её спасительница, а Верити – моя.
И сейчас спасительница мне очень нужна.
Дом Верити расположен в более уютном районе. От нас пешком не больше пяти минут, но словно попадаешь в другой, просторный мир. Дома не теснятся, перед окнами палисадники с живой изгородью – в окна не заглянешь. Вдоль улицы растут деревья, аккуратные дома из красного кирпича уверенно расположились каждый на своём участке. Совсем не похоже на наши улицы, где разномастные домишки беспорядочно сбиваются в кучу. Дома у Верити тишина и спокойствие. Как я люблю у них бывать! Иногда тут даже лучше, чем у родного очага, – у Верити можно спрятаться.
Стучу в дверь и вхожу, не дождавшись приглашения. В просторной кухне никого нет. Небольшой беспорядок, но в камине горит огонь. В гостиной тоже пусто. Поднимаюсь на второй этаж и, окликнув Верити, открываю дверь в её комнату. Верити сидит за письменным столом, устремив взгляд за окно, на осенний сад. Стены в комнате ярко-розовые, напоминание о детстве, когда мы обе обожали этот цвет.
Верити оборачивается, и её лицо озаряет улыбка.
– Леора! Ты как раз вовремя. Что-то я засиделась – пора устроить перерыв.
Она с улыбкой потягивается, не выпуская из пальцев карандаш. Густые тёмные волосы Верити небрежно собраны на затылке, на висках завиваются пряди, которые она безотчётно теребила за работой. На подруге яркая синяя шаль, что подчёркивает цвет её глаз и смуглый оттенок кожи. Верити мне почти как сестра. Она знает меня вдоль и поперёк и любит даже в те дни, когда, скорее всего, слегка ненавидит. Моя единственная настоящая подруга.
Сажусь на широкую кровать и откидываюсь на мягкую высокую спинку. Собираюсь рассказать об утреннем происшествии, но из глаз льются слёзы. Прикрываю глаза рукой – я так устала плакать у всех на виду, так устала чувствовать покалывание подсыхающих слёз на щеках! Терпеть не могу распухшие глаза и ярко-красные губы. Но слёзы всё текут…
Верити уронила карандаш и уже сидит со мной рядом, поглаживая по плечу.
– Лора, мне очень, очень жаль! Когда-нибудь станет легче, обязательно станет легче.
Вот что получается, когда умирает отец. Вообще-то проблем возникает множество, но с того самого дня, сто́ит мне загрустить, все думают, что причина в его смерти. Может быть, так и есть – отчасти. Не знаю… Мысли кружатся слишком быстро, я не успеваю поймать хоть одну из них и додумать.
Перевожу дыхание и пробую хоть что-то объяснить:
– Это не из-за папы. Я утром ходила на площадь… Там был мэр Лонгсайт.
Верити радостно взвизгивает, но осекается при виде моего несчастного лица.
– Там был ещё один человек, он… они… ему поставили знак во́рона…
Воспоминания захлёстывают меня: исступлённые крики толпы, взгляд преступника, безжизненный, тусклый. Не могу поднять глаз на Верити – чувствую, что снова расплачусь, и начинаю чертить пальцем круги на лоскутном покрывале кровати.
– Знаешь, Лора, такое ощущение, что ты пересказываешь сон. Давай сначала – что произошло?
И я рассказываю всё с самого начала, но не могу отделаться от мысли о папе, о том, что у него был такой же знак, знак во́рона. Знак, которого не оказалось в папиной книге.
Куда он исчез?
– Как ты думаешь, Верити, они ведь всё сделали правильно? – Рассказ окончен. В моём голосе прорываются умоляющие нотки. – Они должны были так поступить. Тот человек украл чью-то кожу, чью-то загробную жизнь. Мэр Лонгсайт сказал, что это давняя традиция – ставить знаки преступникам…
Верити берёт со стола какой-то учебник, листает до главы «Знаки и наказания».
– Вот здесь, смотри. Мы проходили наказания, и я повторяла эту тему как раз на прошлой неделе.
Верити читает вслух:
– «Знаки могут быть использованы для регистрации преступлений. Знаки наказаний наносит чернильщик, состоящий на государственной службе. Эти знаки служат для записи преступлений и разного рода проступков и будут учтены при вынесении заключительного решения на церемонии взвешивания души…»
– Но всё было не так, – прерываю я подругу. – Ему нанесли не просто полоску на левую руку, а знак во́рона – я никогда ничего подобного не видела. Знак во́рона ставят забытым…
– Знаю, сейчас будет как раз про это. – Бросив на меня притворно-раздражённый взгляд, Верити продолжает:
– «В самых серьёзных случаях преступника могут отметить знаком Забвения. К знаку Забвения в прошлом прибегали очень редко, поскольку это наказание необратимо. В последние годы практика нанесения знака Забвения сошла на нет, однако история хранит прецеденты такого наказания». Вот так, – заключает Верити. – Видимо, мэр Лонгсайт решил, что преступление действительно очень серьёзное.
Слушая Верити, которая пытается найти решение любой проблемы, невозможно удержаться от улыбки. Если написано в учебнике, значит, верно.
– Но мэр сказал, что теперь публичные нанесения знаков будут проводить чаще.
Пожав плечами, Верити захлопывает книгу. Слёзы я вытерла, но голос ещё дрожит. Как бы опять не расплакаться от какой-нибудь мелочи. Быть бы похожей на Верити, всегда уверенной, что всё идёт правильно и как полагается. Но где-то в глубине души грызёт червячок сомнения, что так наказывать не очень-то справедливо. Зеваю, и меня охватывает дрожь.
– Да что с тобой, Лора? До сих пор плохо спишь?
В ответ я лишь качаю головой.
– Ты совсем измучилась. Ложись поспи у меня, потом поговорим. Я разбужу тебя через час.
Верити бережно укладывает меня на мягкую постель. Пытаюсь отказаться, но кровать под тяжёлым лоскутным покрывалом, которое мама Верити сшила из детских одёжек дочери, манит непреодолимо. Говорят, любые решения легче принимать на свежую голову.

Мне снится, что я совсем крошечная и прячусь в чьей-то голове. Глаза – окна, а рот – дверь. Ко мне кто-то рвётся. Я слышу шелест крыльев и вижу чёрный клюв, проглядывающий сквозь ряд зубов.

– Леора, ты не спишь? – Саймон, отец Верити, стоит в дверях с подносом. – Принёс тебе поесть. Ты, наверное, не обедала.
Он ставит поднос на тумбочку возле кровати.
Саймон всегда был очень добр ко мне и стал ещё добрее после смерти папы. Отец Верити высокого роста, с кожей тёмно-коричневого оттенка, в завитках чёрных волос и бороды проглядывает седина. Его кожа покрыта изображениями человеческих лиц, и когда я достаточно близко, то могу прочесть его настроение – рисунки хмурятся мне или улыбаются. Сегодня ничего не читается: светло-синий медицинский костюм, какие носят в больнице специалисты по болезням кожи, скрывает все знаки. Саймон – хирург. Верити говорит, что он исследует что-то очень сложное и важное о заживлении кожи.
– Не торопись, просыпайся потихоньку, – говорит он, направляясь к двери, но вдруг останавливается. – Скажи-ка, Софи знает, что ты у нас? Не надо бы её волновать.
Мама. Сердце пропускает удар. Она давным-давно ждёт меня дома. Как бы я хотела не просыпаться и отложить встречу с ней, но странный сон и запах поджаренного хлеба уже разбудили меня окончательно.
Вернувшись к реальности, жую тост и спускаюсь на кухню, где Верити разговаривает с отцом. Себ, брат Верити, ещё на работе. Он старше нас лет на пять, но в детстве мы всегда играли вместе. В игре «во взрослых» Себу доставалась роль «папы», потом, когда мы воображали себя дизайнерами модной одежды, он был манекенщиком. Не знаю, что случилось с Себом, почему он немного не такой, как все. Верити говорит, что это «отставание в развитии», а её родители называют Себа «особенным». Иногда сложно разобрать его речь, и ему пришлось потрудиться, чтобы в чём-то догнать нас с Верити. Как-то раз я сказала, что мне жаль Себа, а Верити тут же стукнула меня по руке и потребовала:
– Посмотри на него. Внимательно посмотри. Почему его нужно жалеть? Разве он не такой же живой человек, как мы с тобой?
Удивлённая (у Верити тяжёлая рука!), я покаянно замотала головой.
– Ну и нечего тут, – продолжила подруга, блестя глазами. – Ему не жаль, и мне не жаль, что он такой, какой есть. И не смей его жалеть.
Сказала как отрезала.
У Себа есть профессия. Он выучился на пекаря и уже три года трудится в пекарне по соседству. Там его все любят: он вежлив с покупателями и не отлынивает от работы. Себ делает самые вкусные на свете пирожные с заварным кремом – пальчики оближешь!
Больше всего в доме Верити мне нравится кухня. Здесь всегда тепло и уютно. Стены выложены бордовой плиткой, а мебель – из тёмного дерева. Не сказать, что кругом беспорядок, но на полках груды всякой всячины, что-то висит на крючках, какие-то картинки в деревянных рамках, и среди этого аккуратного хаоса очень приятно посидеть и отдохнуть. Верити обнимает меня за плечи, и мы стоим так некоторое время.
– Да, папа, хочу тебя спросить… Леора кое-что видела сегодня – публичное нанесение знака на площади. Ты ничего об этом не слышал?
Саймон отрывается от кипы газет, которые он складывал в стопку, его руки замирают в воздухе.
– Да, я что-то слышал.
– Мэр Лонгсайт был на площади, а какого-то человека отметили знаком Забвения. – Последнее слово Верити взволнованно шепчет, словно ругательство, которое решилась в конце концов произнести вслух. – Это был знак во́рона. Ведь так, Лора?
Я согласно киваю.
– Как старомодно! – беспечно отвечает Саймон. Он поворачивается к плите и включает под кастрюлей газовую горелку. Кажется, разговор окончен, но Верити не отстаёт.
– Такие церемонии всегда проводят на площади? Почему же я никогда не видела ничего подобного?
Саймон со вздохом убавляет газ и поворачивается к нам, облокачиваясь на гладкий гранитный стол. Потирает щёку, ещё больше взлохмачивая бороду, и произносит:
– Если кого-то объявляют забытым, то делают это на площади. Давно такого не было. Я уж и не помню, какие там правила. А некоторые, между прочим, должны бы и сами об этом знать, если собираются работать в правительстве.
Саймон подмигивает Верити, и она недовольно закатывает глаза, а потом говорит уже спокойнее:
– Папа, а кого-нибудь из твоих знакомых объявляли забытым?
Саймон помешивает содержимое кастрюли, и по кухне разливается умиротворяющий аромат куриного рагу. Он долго молчит, словно передумал отвечать, но потом всё-таки произносит:
– Да, я знал такого человека. Мне было очень тяжело это пережить, дорогая.
Саймон поднимает голову, и я с изумлением вижу, что его глаза блестят от сдерживаемых слёз. Неужели он говорит о папе?
– Давайте сменим тему, девочки. Не стоит бередить старые раны. Леора, ты останешься с нами поужинать?
Мне очень хочется ответить «да» и не возвращаться домой, но я знаю, что так нельзя.
– Спасибо за приглашение, но мне пора. Мама будет волноваться.
– Передай Софи привет и скажи, что пришло время выбраться куда-нибудь развеяться. Мы с Джулией сверим графики дежурств и найдём свободный вечер.
Я киваю и прощаюсь с хозяевами. Хорошо, что о маме есть кому позаботиться.
Верити провожает меня до двери.
– С тобой точно всё в порядке?
– Да, конечно, не беспокойся.
Я улыбаюсь и стараюсь выглядеть как обычно, но, боюсь, вид у меня не самый радостный.
– Ладно. Так я зайду к тебе завтра? Можем готовиться к экзаменам вместе, если хочешь.
– Спасибо, было бы здорово. Я так отстала по всем предметам, что даже не смешно. И вот что, Верити, извини, что я так расхныкалась у тебя. Не знаю, что на меня нашло.
Верити обнимает меня на прощание, и я отправляюсь домой.