
Эдвард Радзинский
Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано!
– Пардон, но мне как-то не приглянулось играть маляра, в то время как она будет играть – меня… Меня – она! А я – маляра!
Он, уже не слушая, кричит:
– Если хочешь знать… тебя держали в театре из-за меня! Я унижался! Я кланялся, и они тебя терпели! Не из-за твоего великого таланта, на твой талант они плевали!
– Охотно верю, на талант они плевали. Ха-ха-ха!
– Но ты умудрилась упиться на гастролях и упасть на клумбу перед гостиницей. Нет, единственное, что я хочу, – это забыть тебя, понятно?
– Ох, милый, забыть – это такая роскошь…
– Я хочу забыть, что я имел к тебе хоть какое-то отношение. Я хочу забрать кроссовки.
– И тренировочные брюки.
– И забыть, забыть – все, как страшный сон. У меня другая жизнь, другая семья…
Сокрушенно:
– Да. И не одна…
– И не одна! У меня семьи, жены, тещи, дети! И все просят! И всем нужно! И я снимаюсь, звучу по радио, теперь уже пишу пьесы. И все мало! И все твердят, что я жадный. А я усталый! Вчера у меня поломалась машина… и я ловил такси на Арбатской площади… под огромным своим лицом на кинотеатре «Художественный»… Я бегал под собой потный, маленький… И думал: какое я имею к нему отношение? У него улыбка размером с автомобиль. Зуб больше, чем весь я. И никаких проблем! А я должен бежать, догонять, добывать и, главное, – вовремя за вас всех отвечать! Всё! Снимаю с себя ответственность хотя бы за тебя! После всего этого жуткого представления…
– Давай тебя жалеть! Я всегда хорошо умела жалеть.
– Сплошная паранойя! Играть пьесу в третьем часу ночи. Ей втемяшилось. Послушай, ты взрослая баба! Тебе уже…
– Пожалуйста, не говори, сколько мне лет. Пощади, родной…
– Ты сидишь в этой страшной квартире – одна… И все время что-то выдумываешь. И про грибы… какие-то! Ну хорошо, тебе втемяшилось играть! Ради Бога! Давай! Всю пьесу будешь играть?
– Всю не успеем. Фортинбрас скоро проснется… Давай сразу к развязке – где убийство.
– Я в двадцатый раз повторяю: какое убийство?! Где там убийство?!
Она будто не слышит:
– Значит, четыре последние сценки… Думаю, уложимся. Ха-ха-ха!
– Начинай! Начинай!
– Ха-ха-ха! Смешно… Так волнуюсь играть… Впрочем, это со мной всегда. Я в театре всегда умирала от страха. Сижу за гримировальным столиком, накладываю от ужаса тонну грима и говорю себе в зеркало: «Нина, ты красивая женщина. А красивая женщина может позволить себе все! Вперед!» Шла и играла! И как играла!
Он. Начинай!
Она ставит на стол вермут, пододвигает кресло.
– Что это ты делаешь?..
– Выставляю на стол твой вермут… И мои грибочки. Чтобы как-то обозначить первую сценку в ресторане. Пить твой вермут не буду, не бойся. Как и ты, уверена, не тронешь больше мои грибочки! Ха-ха-ха! Итак, в тот день он увидел ее во всеоружии ее тогдашней губительной красоты…
– Ты это уже говорила.
– Но как приятно повторять. Это была их третья встреча. Но, как и при первых двух, он сказал ей: «Идем!» И она пошла, побежала… Здесь можно включить пленку с радостным собачьим визгом. Короче, они пришли в ресторан. Заметь, действие идет, а мы обходимся без твоих слов. В ресторане можно обходиться совсем без слов. Потому что он болтал о чепухе, а она все ждала, когда он спросит о судьбе несостоявшегося лже-Мартиросика. Но он так и не спросил о злосчастном плоде. И тогда она почувствовала бешенство. Понимаешь, его беда была в том, что он видел ее всегда в любви. Он не знал, что в детстве ее звали психованной. Потому что, когда на нее накатывало… И еще он не понимал главного: как они рядышком – любовь и ненависть…Короче, всю их болтовню в ресторане выбрось из пьесы. И вместо этого вставь то, что она вспоминала… точнее – никогда не забывала. Как в десять лет она обожала девочку из своего класса. Это была раскрасавица девочка с роскошными волосами. Как она ее любила! Но та совсем не хотела с ней дружить. А она безумно хотела и бешено ревновала ее ко всем ее подругам. И вот как-то зимой девочка играла в снежки… И она подошла и включилась в игру. Она кинула в девочку снежок, та засмеялась и не ответила. Девочка кидала снежки в своих подруг. Она почувствовала ярость. В мгновение она превратила игру в снежки в побоище. Все разбежались – она осталась один на один с обожаемой девочкой. Она яростно кидала в нее снежки, она залепила ей снегом все лицо, а та только смеялась. Она била ее снежками в упор, а та в ответ – хохотала!!! И тогда она стала на колени и, зарыдав, поползла к ней по снегу… Она протягивала к ней руки, она молила. А та смеялась ей в лицо… И вот тогда в ресторане она вдруг услышала тот смех, который преследовал ее всю жизнь.
Швырнула миску с грибами на пол.
– Ты что?!
– Забыл? В ресторане вот так же она уронила тарелку с едой… чтобы не надеть ее тебе на голову. А потом мы вышли, и ты ловил такси. Смешно и отчаянно ловил посреди мостовой! Очередной шофер, который, видно, ехал в парк… ты загородил ему дорогу. И он высунулся из окна и плюнул тебе в лицо.
Он судорожно закрывает лицо.
– Ты что?! Я все могу… но плюнуть в лицо!!! И ты стоял посреди мостовой с оплеванным лицом и вдруг сказал добро-добро: «Устал, наверное, парнишка». И когда она увидела твой оплеванный гуманизм… Боже мой, вся её прежняя нежность вернулась… и кости посыпались на мостовую. Так он смог увезти ее. И возобновились их вечные отношения: хозяин и собачка у булочной! И он приходил к ней после очередного загула или после ссоры с женой… короче, приходил когда хотел.
– Спасибо, что все-таки вспомнила: он был женат на другой.
– Он всегда был женат на другой. Сначала он был женат на той и жаловался этой… Потом был женат на этой и жаловался… Жены были его право – постоянно бежать. Кролик, беги! Ха-ха-ха! А она – вечное дополнение к его бракам. Боже, как все у них тогда было легко и весело… Только жаль, что у нее в это время «проклюнулся возраст». Это предательское ощущение, когда уже не можешь весело шастать по случайным квартирам… когда не веселит безбытность… и появляется банальная жажда дома – семьи, детей. Но ему это было не нужно с ней. Вот отчего он очень обрадовался, когда узнал, что после убиения в ее чреве лже-Мартиросика – никогда не начнется в ней другая жизнь. И она не простила ему этой радости. Вот здесь опять нужно включить пленку с тем смехом девочки… Ха-ха-ха… Она опять познала бешенство. И начались их страшные ссоры… В тот день она с ним опять поссорилась – и он был счастлив своим правом от нее убежать. Она безумно ждала его звонка – но он позвонил ей только через два дня. Как она умирала эти два дня… Он сказал по телефону, что ему нужно приехать, забрать очередные кроссовки. Она ответила: «Не приезжай, я сама их тебе привезу». Так надо было ответить, чтобы показать, что она сердится. По правилам их ссор – он должен был все равно настаивать и приехать. Но он охотно согласился встретиться на улице. И самое страшное – она почувствовала почти облегчение в его голосе: «Талак… талак… талак!»
– Надеюсь пролог закончен?
– Да, мы подошли наконец к твоим словам.
Она читает текст его пьесы:
– «Они встретились в полдень».
Он читает:
– «Что с тобой происходит?»
Она читает:
– «А вот этого ты не поймешь!»
Он:
– «Куда уж мне! Я всю жизнь слышу, что я не пойму чего-то невероятно тонкого, таинственно женского. Я слышу это от всех, начиная с жены…»
Она:
– «Кончая женой. В нашей ситуации звучит лучше. Как ты заводишь себя, чтобы быть решительнее. Ну, скажи правду, хоть раз в жизни не бойся. Ты ведь расставаться со мной пришел?!» – Помолчав: – Неужели все это говорила я? Мне сейчас кажется, что я все время спала – и ночью, и днем – с открытыми глазами…
– Ты будешь читать свой текст?
– Зачем? Я тебе посоветую вместо всего этого глупого потока ненужных слов – оставь одну банальную фразу, кажется, из пьесы Бернарда Шоу: «Нет в мире женщины, способной сказать «прощай» меньше, чем в тридцати словах»… И еще совет: всю сцену замени пластическим этюдом: она идет от него, но все ее бедное тело как бы просит, умоляет: «Остановите меня, остановите меня!» Она идет от него мучительно долго, тысячу лет!
– Интересно… И как он должен был ее остановить?
– Бедный! Забыл? Примечание к пьесе: «Как ему нужно было остановить ее». В ее ухе… ничем не примечательном, обычном ухе таился предательский кусочек кожи. Когда он дотрагивался до него губами – земля мчалась прочь из-под ее ног. А если он клал ей руку на позвоночник – она тотчас теряла все свои кости. Падали, мерзавцы, на пол, и все тут. Поэтому… когда поняла, что он так и не остановит ее – шла по переходу… и шептала одну фразу. Это тоже из какой-то пьесы: «Остановите Землю, я хочу слезть!»
– Так она его любила…
– Так она его тогда любила.
– Он об этом подумал… когда она валялась на клумбе… после того как…
– Тсс… После чего она валялась, мы выясним уже сейчас! Но учти: она не валялась. Она возлежала на клумбе среди цветов, как Офелия на дне пруда! К сожалению, пришел десятиклятый директор вашего тысячеклятого театра – и все опошлил!
– А я уверен: ты не была тогда пьяной… Ты играла в это, чтобы меня мучить!
– Все для него! Так она его тогда безумно любила!
– Он подумал об этом вчера, когда она пустилась в пляс в ресторане с первым встречным грузином.
– А она тоже об этом думала, когда танцевала с грузином. Понимаешь, она все ждала, что грузин положит ей так же руку на позвоночник – и она останется без костей. Но у него не вышло. У них, у всех мерзавцев оказывались не те руки. Даже когда она помогала себе китайским вином… И она забыла, что она феминистка. Как положено просто несчастной бабе, она спустилась в туалет и уставилась на себя в зеркало. Знаешь, первый признак, когда я несчастна, – у меня лицо становится бесформенным… не лицо, а детская задница! Она поняла… что ей уже не стянуть этот зад со своей физиономии, пока…
Замолчала.
– Пока что?
– Пока не освобожусь от тебя! Мне иначе нельзя начать нормально жить… Что мне сделать, чтобы освободиться от тебя?
– А ты попробуй трусцу.
– Молодец! Умеешь ответить. Трусцу мне нельзя! Я боюсь вас, бегуны трусцой. Однажды под утро… мы сейчас вернемся к этому утру… Это был рассветный зимний час, я плелась домой с очередным детским задом на физиономии… И вдруг из сумрака прямо на меня понеслась красная фигура. Пустота, снег, фонари – и на тебя несется кровавый человек! Боже, как я закричала! И он в ужасе заорал тоже! Ха-ха-ха! Ну конечно, это был бегун трусцой в красном тренировочном костюме!
– Скажи, это – до бесконечности?
– Прав! Пора заканчивать. Итак! – Она читает ремарку его пьесы: – «Ресторан, где они случайно встретились после того, как он ее бросил». Вранье! Это была не случайная встреча. Она ходила, ходила в этот чертов ресторан, потому что знала: туда любил ходить он. И он это знал. И всякий раз, когда замечал ее… трусливо уходил, делая вид, что не заметил. А она все ходила! В тот день ей повезло, он пришел в ресторан не один. Он привел с собой обедать известного кинорежиссера… и бабника. Впрочем, можно сказать наоборот – известного бабника и кинорежиссера! Кинорежиссер был урод и через несчастных баб самоутверждался в этой жизни! Ну а дальше все играем, как у тебя в пьесе. Кинорежиссер действительно «положил на нее глаз». Подошел к ней и пригласил ее танцевать… Знаешь, я страшно реагирую на уродов. Однажды я разговаривала с одним уродом – и упала в обморок… Причем человек может быть абсолютно обычный, но мне он кажется уродом. Это у меня просыпается «третий глаз». Такой чертов глаз. Например, человек очень серьезный, а я вдруг вижу его, как в «комнате смеха». Рот до ушей, щеки висят, как галифе! И начинаю хохотать. Ха-ха-ха! Никто никогда не понимает, только моя подруга Мариша спрашивает: «Он проснулся?» Теперь «глаз» часто просыпается. Особенно под утро… Когда я вижу… того, кто лежит рядом… Так что знай: когда твой друг режиссер, победно подпрыгивая по привычке всех маленьких мужчин, подошел к ее столику… ее «третий глаз» тотчас пошалил. И она увидела его космическим уродом..! Теперь ты представляешь, чего ей стоило пойти с ним танцевать? Но она пошла! Вот так, Саша…
– И это тоже ради меня?
– Ты плохо слушаешь?
– Знаешь, мне кажется…
Она испуганно:
– Болит? – Торопливо: – Не может быть! Не может! Слышишь?.. Она танцевала… подставив свой вечно жаждущий позвоночник. И кинорежиссер возложил на него свою мертвую руку! И танцуя, обнажил свои чудовищные зубы: «фэ-фэ-фэ», и предложил ей с ним уехать. Она погибала от его уродства. И «третий глаз» вовсю рисовал «капричиос»! «Мне вызвать такси?» – шептал кинорежиссер. И она согласилась… И смотрела, смотрела на столик – где сидел он… И умирала от любви!
– Мне по правде… больно!
Она выкрикнула:
– Мнительный! Как все мужчины!.. Что у нас дальше? И ты встал и подошел ко мне. Свершилось! Боже! Я замерла, предчувствуя боль и радость объяснения, и счастье примирения… И нежный собачий визг уже стоял в груди. Ха-ха-ха! Ну что же ты сидишь? Мы же играем! «Лила»!
Он с трудом поднимается.
– Мне правда… больно!
Она визгливо:
– Я сказала – мнительный! Ну иди… Подойди ко мне, как тогда. Близко-близко, чтобы я увидела… то – в глазах. Ты подошел, и мы заговорили… Ты точно записал наш тогдашний разговор, все точно. Читай!
Он читает:
– «Послушай, ты сошла с ума?»
– Ты забыл больно схватить меня за руку.
Он послушно хватает.
Она читает пьесу:
– «Не надо хватать за руку… синяки остаются… у меня кожа ненормальная…»
Он читает:
– «Ты с ним не пойдешь… Он – мой друг».
Она:
– «Не надо иметь таких друзей».
Он:
– «Ты не пойдешь, слышишь!»
Она:
– «Пойду! Пойду!»… – Ты правильно записал слова. Только эти слова не имели никакого значения! Потому что все эти слова она произносила счастливым голосом: она торопила радость примирения… И ему достаточно было… как всегда, дотронуться губами до ее сумасшедшего уха… или возложить персты на сентиментальный позвоночник… Но он… Он спрятал свои лгущие глаза. Он показал, будто верит ее словам. И вот тогда он сделал единственное, чего нельзя было делать, – он ударил ее! Точнее, он сделал единственное, что нужно было сделать, чтобы она ушла с тем, с другим. Почему же он, который знал все о ней… – Шепчет: – Он хотел, чтобы она ушла с другим! Тсс… Но что же ты сидишь? Что там у тебя по тексту… «Он бьет ее». Ну бей! Бей, скотина! Корзинка для мухоморов! – Кричит: – Ну? Что же ты?
Он бьет ее.
– Не так! Бей, как тогда!
– Мне… плохо…
– По вопящему рту! Ну! Ну!
И он бьет ее больно, наотмашь.
– Молодец… Теперь я могу прочесть ремарку: «Она убегает».
Она бежит по комнате и вдруг застывает.
– Ты заметил? Я остановилась в дверях! Как вкопанная! Потому что вдогонку… как выстрел! В спину! Ты ударил последней фразой! Ну! Давай! Ведь ради нее все было! Чтобы ты имел право прокричать вслед эту фразу! Ну! Что же ты?! Кричи! Как тогда!
Он кричит текст пьесы:
– «Все! Теперь действительно все!!!»
Она аплодирует:
– Ах, какая фраза! Знаешь, я ее часто вспоминала… потом… Но до конца поняла ее однажды зимой, когда «третий глаз» пошалил! Дело происходило в парке «Сокольники». Стояли сосны в снегу. И там, среди сосен, я часто встречала милого старичка пенсионера. Он носил еду белкам. А зима была холо-о-одная. И белки ради еды стали совсем ручные. Они его узнавали и поедали орешки прямо из его рук. А потом однажды я увидела, как били милого старичка. Оказалось, он этих белочек… как бы это сказать… едой завлекал… приручал. А потом… когда они становились совсем ручные – бац их – в мешок! И на шапку! Ха-ха-ха! Он был – беличий соблазнитель. И я подумала: когда он их в мешок швырял – он наверняка приговаривал: «Вот теперь действительно все!» Ты не слушаешь?
– Мутит… Больно…
– Знаешь, если эти грибы действительно… Жаль, что я их тоже не съела. В конце концов, может быть, смерть – самое интересное в жизни… Ха-ха-ха… Шучу, не бойся. Просто мне один тип, у которого была клиническая смерть, рассказывал, что все было весело. Он увидел: в ярком-ярком свете на помосте танцевали развеселые люди. А перед этим помостом стояли носилки… и на носилках лежал он сам… Ха-ха-ха!
Он вдруг бросился к дверям, бьется в дверь, кричит:
– Дай ключ! Сейчас же! – Хватает ее за руку, орет:
– Ключ!
Она шепчет:
– Он – там… за окном… Только сумей прокричать в темноту: «Витя! Художник!» Ха-ха-ха! Или, может, ты хочешь меня еще разок ударить?.. Не надо Совсем немного осталось – и получишь ключик! Какие-то две сценки! Делов-то! – Читает ремарку: – «Она и кинорежиссер пришли в квартиру кинорежиссера». Ха-ха-ха! Я так смеялась, когда читала приличную сценку, которую ты написал. Морально написал об аморальном!
– Но ведь ничего не было… там!
– Знаешь, потом… под утро, когда я возвращалась от него… Ну, я тебе уже рассказывала про этот рассвет, когда выбежал на меня кровавый бегун. Вот тогда, после ужасного бегуна, я зашла в свое парадное. И увидела кошку. Это была ночная ободранная кошка, уставшая от мартовских гуляний. Я потом часто встречала ее в парадном. Я даже постепенно начала с ней разговаривать. Вот этой кошке я как-то сказала замечательную фразу: «Когда женщина возвращается утром от мужчины, у нее сознание легкого поражения». Ха-ха-ха!
– Послушай, но ничего не было.
– Кстати, у тебя в пьесе эта фраза звучит интереснее… Мы уже дошли до нее. Итак, я сделала три шага вверх по лестнице мимо кошки, которой предстояло стать моей верной собеседницей, – и увидела тебя… Читай!
Он читает пьесу:
– «Ты не была там?» – Кричит: – Но я в это верил!
– Ха-ха-ха… Ты в это верил?! Я тогда смотрела в твои испуганные глаза. Как же я их любила. Я еще тогда не знала – у кого бывают такие глаза. Я ведь еще не встретила ловца белок в Сокольниках! Ну, читай!
– «Ты не была там?»
– Ты повторял это! Повторял!
– Я верил в это! Верил!!!
– Я много думала потом об этой странной вере. Ты, который знал, что он – фашист. Который видел, как на съемках ему надо было растоптать, уничтожить, чтобы начать снимать! Потому что только ценой чужой боли в нем загоралось вдохновение!..Он часто снимал тебя. И ты ловко удружил ему… мной! Ты называл его Достоевским. Этого Беса из Достоевского! Слушай, когда ты называл его Достоевским, ты хоть вспоминал: «Ты не была там?»… А я вспоминала. И когда валялась на клумбе, лицом в землю, мне вдруг показалось… что я опять в его комнате! Ползу… и меня догоняют, догоняют… и волочат!.. И заплаканным лицом – в подушку… А потом я хриплю… сквозь его мерзкий рот! И я лежала на клумбе и кричала: «Остановите Землю, я хочу слезть». И поверишь: вдруг головки цветов превратились в кисти… И я поняла – это пришел «Витя-художник»!
Ах, миленький, я так устала от своей великой любви… от этой великой тщеты. Так что можешь без всяких женских воплей преспокойно отправить меня на шапку, проклятый ловец белок!
Раздается странный тонкий звук. И следом будто обрушивается вопль магнитофона.
– Слышишь? Он – проснулся! Фортибрас наконец к нам идет!
– Больно… Я не могу дышать…
– Как жаль… А я хотела сыграть про сумасшедший дом… куда она попала. Знаешь, милый, там было такое же окно… Она так же орала туда по ночам… Но они его забили.
Он хрипит. И тогда она…
Она бросается к окну, разбивает его и кричит, размахивая кровавыми руками:
– Витя! Художник! Я здесь! Я жду! Я – Нина!
Женившись – не забудьте развестись
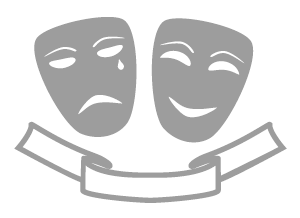
Она дала ему номер своего телефона и просила звонить.
Кронов много раз собирался это сделать, но боялся, что будет тянуть по телефону скучные, глупые слова и все испортит. Поэтому он узнал в канцелярии адрес и все время бродил около ее дома.
Встретил он ее через неделю в университете. Это было в субботу. Сокурсники собирались отбыть в турпоход. Они сидели во дворе на рюкзаках и пели песню «Если б был я турецкий султан, я бы взял тебя в жены».
Они ждали Кронова, который в это время нес из профкома остроумный плакат:
«Не потеряем в лесу человеческий облик».
На повороте коридора у расписания стояла она.
Кронов остановился как вкопанный.
– Что ж вы не звоните, Дима? – сказала она.
Он забормотал какую-то глупость.
– Это невежливо, Дима. Вот и все.
Она поглядела на транспарант «Не потеряем в лесу человеческий облик» и не спросила: «Какой дурак мог выдумать эту тупость?» (как спросила бы потом, через пару лет).
Но улыбнулась, и очень нежно. Потом посмотрела на его ковбойскую шляпу и не спросила: «Что за ужас у тебя на голове?» Но сказала: «Какая чудесная шляпа… Она вам очень идет, Дима».
– Пойдемте с нами… в этот самый турпоход, – сказал он, совсем охрипнув (это случалось всегда, когда он очень волновался).
– Нет, милый Дима, я не пойду в «этот самый турпоход».
Она удивительно это сказала: в ее словах была и взрослая улыбка, и признание собственной слабости, и понимание, как женственна эта слабость.
На прощание она улыбнулась ему, как-то мельком, с какой-то тайной, ресницы у нее при этом чуть опустились и глаза лукаво блеснули.
Как она была красива! Она была чудо как хороша. На трагически бедном красивыми девушками физфаке многие были уверены в этом. Потом, когда они окончат университет, только трое верили в это по-прежнему: она, ее мама и он.
Он часто думал потом: «Ведь не всякий поймет, какая она красавица. И будет пороть ей какую-нибудь чепуху о том, что у нее добрая душа. А она красавица… Но чтобы это понять, надо было видеть, как она уходила тогда по коридору, полыхая в солнечном свете золотыми волосами».
Сначала надо нарисовать рай…
Рай – это то, что было среди самых его первых ощущений в начале жизни… Он помнит, что было лето и утро… И он бежал по мокрой некошеной траве, и вокруг пахло чем-то розовым, сладким. «Это – земляничная поляна», – сказала сзади мама.
Потом он забыл об этом. И вспомнил, когда появилась она.
Итак, надо нарисовать земляничную поляну, и на поляне двое: он и она. А внизу не забудьте скромную подпись: «Рай»…
После встречи в коридоре они стали видеться каждый день.
И было у них, как у всех… как тысячу… миллион лет назад. Они полюбили читать одну книгу. Они сидели в университетском скверике, склонившись над книгой и ощущая сдвинутыми плечами прекрасную близость друг друга.
Да, все было у них обычно, пока не наступил тот день – их первый день испытания на жизнь.
Провожали чету вулканологов. Вулканологи уезжали на вулкан, где должны были осесть на долгие годы. Все немного выпили и начали говорить то, что думали, то есть жалеть вулканологов, которые уезжали от всяческой жизни к своему одинокому вулкану.
Тогда встал супруг-вулканолог и сказал речь. Он сказал, что если человек – ученый, то вся жизнь его – драма, то есть драма борьбы. Если люди любят друг друга, то жизнь их сразу поэма и драма… И потому им не нужен никакой театр, они сами театр.
«Я люблю эту женщину, – говорил он, глядя на свою жену-вулканолога, – и она меня. Рядом с нами будет удивительная природа. И объект исследования – объект нашей драмы – будет тоже рядом с нами. И мы будем счастливы – я, моя жена и вулкан».
Надо было бы добавить про детей, которые станут частью извержения вулкана.
Тут все захлопали, а она чуть не заплакала, так ей понравились слова вулканолога. Кронов сильно сжал ее руку. Не выпуская ее руки, он встал и повел ее за собой. Она молча пошла за ним из комнаты.
В коридоре кто-то кашлянул. Они вышли на лестницу. Он неумело прижал ее к себе и поцеловал. Она вырвалась и побежала вверх по лестнице. Он пошел за ней. Она остановилась на последнем этаже у окна и по-прежнему молча, не оборачиваясь, стала глядеть в это окно…
Во дворе был недостроенный дом, освещенный безжалостным белым светом прожектора.
Она повернулась к нему и заговорила. При этом она все время как-то досадливо поводила головой, но ничего не могла поделать с собой, и было видно, что она плачет.
Она сказала Кронову, что она любила безумно… до него, но ее разлюбили…
Ей бы сказать наоборот, что не она любила, а ее любили безумно. И что она совсем не любила, но что кто-то хотел покончить с собой, вопрос стоял именно так… И она, только чтобы его спасти, и т. д. Но она не знала тогда, как нужно говорить в таких случаях.
Он молча повернулся и пошел вниз по лестнице… А она осталась у окна с видом на недостроенный дом. Он шел по улице и кривил рот, так ему было плохо. Потом он пришел в общежитие и улегся на кровать. Ему было уже двадцать лет, но она была его первая девушка. Он лежал и смотрел в окно, в теле была сухая легкость, как в детстве после сильных слез и болезни.
И все-таки он доказал себе, что человек не тот, кем он был прежде, а тот, кто он есть теперь. Он решил позвонить ей, и если она сразу возьмет трубку, значит, она ждет его, и это его судьба. И тогда он простит ее. (Он был уверен в своем праве прощать ее за то, что она уже любила до него.) Он не знал тогда, что, если бы она не подошла к телефону и если бы она сказала, что тысячу раз любила до него и столько же раз ее бросили, он все равно простил бы ее.
Была глубокая ночь.
Он набрал номер, и она сразу сняла трубку.
– Алло, – сказала она. – Алло…
Он молчал в трубку.
– Алло, – говорила она тревожно. – Алло… Алло… Алло… Алло… Это ты?..
Он молчал. Она, видно, была уверена, что это он, и поэтому сказала:
– Это Димка… Это Димка…
Она засмеялась счастливо-счастливо, а потом замолчала. Она всегда замечательно молчала. Она опускала голову и молча перебирала губами, как кролик. Он представил, как она там замечательно молчит, и чуть не умер от нежности. Потом она заговорила почему-то шепотом:
– Ты ничего не понимаешь… и ты меня обидел…
(Это не она его обидела, а он ее… И самое удивительное – ему было смертельно жаль ее.)
– Я тебя люблю, – сказал он, охрипнув.
– Ты хочешь сейчас спать?
– Нет.
– Я одета… Я быстро… Ты жди меня, где всегда.
Он ждал ее, где всегда. Очень долго ждал, как всегда. Она не умела торопиться. Она всегда собиралась загадочно медленно.
Потом она пришла. Когда он ее увидел, все, что он думал, показалось чудовищным, нелепым, будто он очнулся утром после страшного сна.
Она медленно шла по обочине тротуара, стараясь при каждом шаге попадать ногой на новую плитку, наверное, она что-то загадала и считала шаги, как девчонка. Он шел рядом.
Так они шли по улице, изредка поглядывая друг на друга. И если кому-то из них удавалось поймать взгляд другого, они оба невероятно радовались.
Она вдруг сказала:
– А я ведь думала, что больше мы никогда не увидимся…
Потом они снова шли молча и играли в новую, еще более странную игру: они находили ощупью пальцы друг друга и сжимали до хруста. И ей было совсем не больно – так она говорила тогда.
Он проводил ее домой. В парадном они поцеловались. Потом она стала подниматься по лестнице, а он целовал ее на каждой ступеньке, увеличивая и увеличивая число поцелуев.
– Пропали мои губы, – шептала она.
Так они дошли до ее квартиры.
Они зашли в квартиру, потому что родители были на даче и входить ей одной в темную квартиру было неприятно.
В темноте передней они снова целовались, и только потом она зажгла свет. Но тут выяснилось, что они оба «совсем не хотят спать». И он решил не уходить еще полчасика…
Так наступило их первое утро. Как радостно, счастливо «все было». И как они проснулись, и она засмеялась и прекрасно сказала: «Димка, всю ночь… после… ты меня обнимал. Я так и проснулась, обнявшись…»
Наверное, он просто боялся, что она убежит. Или… что все это сон.
Потом она встала и совсем голая пошла в ванную… И он совсем потерялся от ее красоты.
Было очень рано, когда они вышли из дому. Он удивился, как светел воздух и как громко поют птицы.
Он подумал, что днем они, наверное, тоже не молчат, просто их не слышно из-за шума на улицах.
Они шли к метро.
– Какое сегодня число? – спросила она.
– 12 июля.
– Сегодня «Самсон-ветродуй»…
Она засмеялась и прибавила:
– Надо же… Наш первый день с тобою – с таким глупым названием.
Она сказала, что в прошлом году жила в деревне у бабушки и выучила там все дни народного календаря. Он тоже захотел выучить. Они шли к метро и учили бабушкин народный календарь.
– Когда будет «Мокрида»? – спрашивала она.
– 26 июня, – отвечал он радостно и наобум.
– Нет, 26-го – «Акулина-гречишница». А когда будет «Зиновий – Синичкин праздник»? Не знаешь… Не знаешь…
За это ее знание последовал поцелуй.
Не знал он и главного события 20 апреля… Оказывается, в этот день по всей Руси в реках просыпаются русалки. И вся бабушкина деревня отправлялась топить в реке старые рубашки, чтобы русалки могли прикрыть свою наготу.
Излишне говорить, что и это важное событие было отмечено поцелуем.
Особенно много поцелуев пришлось на день 5 мая… Оказалось, это был ведьмин день… Ведьмы в лесах, на полянах водили хороводы..
Она рассказывала, и глаза ее от ужаса становились круглыми. И он целовал ее, чтобы она понимала – Кронов защитит ее от всех ведьм в мире.
Их обогнал пустой утренний автобус. У автобуса влажно блестели бока и стекла.
И парень в окне автобуса смеялся и махал им.
На углу рядом с парком стояли два молоденьких милиционера. Им было очень весело: они играли в футбол теннисным мячиком. Два камушка обозначали ворота, и они били друг другу по воротам по очереди, «со счетом».
Кронов помахал рукой милиционерам, и они тоже помахали ему в ответ. Это было славно.
И Кронов радовался этому приветливому утреннему братству! А она вдруг замолчала. Потом вынула из сумки черные очки и надела.
И молча шла в черных очках и о чем-то думала.
За высокой оградой парка начинался лес. Там уже были загород и высокое небо, не загороженное домами. И земляничные поляны.
Потом он сидел на кровати в общежитии, даже не пытаясь разобраться, что же произошло. Потому что тогда все было так понятно.
Еще два месяца назад он точно знал, «чтобы достичь в науке чего-то, жениться надо после 35». Так требовал «по своему опыту» любимый преподаватель Григулис.
Но любимый преподаватель Григулис не знал того, что теперь знал он. Есть она – «его женщина» – и все остальные женщины.
Ее мать была против этого брака. Ее мать знала, что дочь Лена – красивая, умная, порядочная, талантливая, работящая девочка. При таком обилии положительных качеств Кронов никак не мог ей соответствовать. И хотя мать знала это «совершенно точно» (ее любимое слово), но она была «реалистка» (другое любимое слово), то есть женщина прогрессивных взглядов в сложных отношениях родителей и детей. Поэтому она все это «тотчас сказала себе» (любимое выражение – употреблялось ею в абстрактном смысле). Обычно то, что она «говорила себе», она тотчас доводила до сведения всех. Например, обращаясь к дочери: «Я сказала себе, что ни единым словом больше не вмешиваюсь в твою жизнь, хотя я категорически против твоего брака».
Мать поговорила с отцом. Отцу было сказано, что, пока он был занят своими делами, любимая дочь изволила переспать с каким-то нищим студентом. Но изменить уже ничего нельзя, потому что «его дочь упряма как осел, точнее как ее отец».







