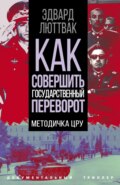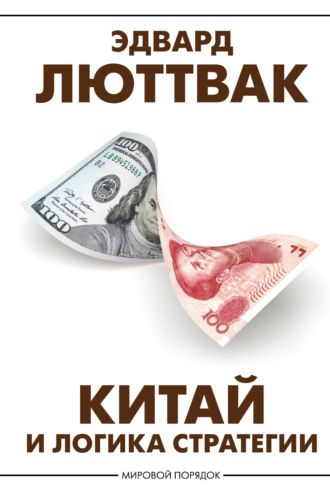
Эдвард Люттвак
Китай и логика стратегии
Здесь важно не внешнее, а скрытое: такого рода благожелательные правители сулят стране неизбывное счастье и благоденствие, а СМИ надлежит подавать новости в соответствующей позитивной манере. Казалось бы, лучезарная маоистская пропаганда осталась в прошлом, однако ей на смену пришли бесконечные истории успеха, которым не препятствуют некоторые общепризнанные трудности.
Это измерение китайской публичной культуры – позитивный тон СМИ, разбавляемый для достоверности отдельными сообщениями о недостатках на местах, – чрезвычайно привлекательно для большинства африканских политиков. Недавно господин Самуэль Окудзето-Аблаква, заместитель министра информации Ганы, объяснил, почему так происходит: он похвалил «“Синьхуа”, китайское информационное агентство… [за его] высокий профессионализм в подаче информации о Гане… в отличие от других иностранных СМИ, которые обычно выставляют Гану и другие африканские страны в дурном свете (sic!)». Свои похвалы Окудзето-Аблаква расточал, когда открывал фотовыставку агентства «Синьхуа» на факультете лингвистики в Университете Ганы[36].
Третий отголосок системы дани проистекает из ее неотъемлемой характеристики – двусторонности отношений. Допускаются лишь два участника сделки: укрощенный варвар, приносящий дань, и милостивый император, готовый вознаградить варвара ценными дарами. Если на границе наметились какие-то беспорядки, вместо милости дозволяется проявить строгость и сделать выговор (или, наоборот, в зависимости от расклада сил, император может снизойти до особо ценного подарка).
Возбранялось лишь одно – допускать объединение вождей сопредельных варварских племен. Даже если они объединялись в действительности, император не принимал их вместе: отношения всегда выстраивались исключительно на двусторонней основе.
Тут сразу приходит на ум история с островами Спратли. Страны АСЕАН, предъявляющие права на отдельные острова в Южно-Китайском море, ощущают угрозу со стороны Китая, который притязает на весь архипелаг, пускай тот расположен далеко от китайского побережья. На собрании представителей стран – членов АСЕАН в июле 2010 года было принято вполне резонное решение провести многосторонние переговоры с КНР, однако это решение вызвало гневную отповедь китайского министра иностранных дел Яна Цзечи – по крайней мере, так восприняли случившееся сторонние наблюдатели[37]. По всей видимости, унаследованная неравноправная двусторонность вассальной системы вполне отвечает китайским интересам, но в то же время это единственная модель внешнеполитического поведения, укорененная в официальной китайской культуре.
Итак, китайский великодержавный аутизм усиливается не только вследствие внутреннего спроса ввиду размеров страны, но и благодаря негласной презумпции исключительного положения и иерархического превосходства, традиционной для международной политики эпохи Хань.
Полагаю, как раз это ощущение своего иерархического превосходства побуждает китайцев столь остро воспринимать «неравноправные договоры» девятнадцатого столетия, начиная с Нанкинского договора 1842 года, навязанного династии Цин победившими британцами (этот договор связывал обязательствами только китайскую сторону). Китайцев возмущало не само неравенство, а изменение привычного положения сторон: ведь раньше император подчинял себе иностранцев, а не наоборот.
Выдвигаемое нами утверждение, будто древняя политика Тянься сказывается на современной китайской внешней политике, может быть отвергнуто как недостоверное, предвзятое или враждебное «ориенталистское», если вспомнить терминологию Э. Саида, этого пророка и покровителя интеллектуального антизападничества. Тут стоит отметить, что местное отделение находящегося в Пекине Института Конфуция, финансируемого государственным органом Ханьбань (Канцелярия национального управления по изучению китайского языка как иностранного, орудие культурной пропаганды КНР), выступило спонсором мероприятия, организованного в мае 2011 года в Стэнфордском университете под названием «Рабочий семинар по Тянься: культура, международные отношения и всемирная история. Осмысление китайского восприятия миропорядка». Название звучит научно-исторически, но суть мероприятия была иной, что явствует из пояснительного текста:
«Практическая ценность традиционного китайского видения мирового порядка, или Тянься… [состоит в том, что]… оно возводит авторитет универсальной власти к моральным, ритуальным и эстетическим основаниям высокой светской культуры, вырабатывая социальные и моральные критерии для оценки справедливого и гуманистического управления и надлежащих социальных связей. Разнообразные мнения, обусловленные Тянься, сегодня заново проявляют себя в современном Китае, ищущем способы морального и культурного взаимодействия и взаимосвязи с мировым сообществом. Мы уверены, что это китайское видение может оказаться продуктивным… в нашем противоречивом и пока еще не взаимосвязанном мире».
О продуктивности такого видения можно прочитать во вводной брошюре к мероприятию:
«Китай превращается в экономическую и политическую великую державу, а мыслители и исследователи обсуждают теоретические последствия традиционного китайского видения миропорядка. Попытка [Китая]… стать членом мирового сообщества и войти в мировую историю противоречит западному темпераменту, погруженному в конфликты национальных государств, в геополитическое соперничество и в экономическую теорию, основанную на индивидуализме собственников и империалистической экспансии. Эти особенности современного капитализма способствуют мистификации культурных различий и усугублению географического неравенства».
Затраты Ханьбаня на мероприятие явно окупились сторицей, так как представилась возможность атаковать основные западные ценности и продвинуть синоцентричную модель международных отношений в одном из лучших западных университетов, причем большую часть расходов взял на себя Стэнфордский университет[38].
Глава 5
Грядущее геоэкономическое сопротивление возвышению Китая
Случаи провокационного поведения после 2008 года естественным образом ускорили ответную реакцию на возвышение Китая. Но вообще эта реакция была вызвана не провокациями, и потому ее нельзя устранить примирительными жестами, визитами чиновников, призванными восстановить отношения, или успокаивающей риторикой, ведь эта реакция отражает скорее восприятие китайского могущества как такового, а не оценку текущего поведения Китая на мировой арене.
Удельный вес такого восприятия и указанных оценок в каждом случае разный.
Во-первых, могущество – реальность, которая отнюдь не исчезнет при изменении поведения. Во-вторых, поведение обычно оценивают после событий, тогда как восприятие могущества обращено в будущее. Кроме того, в отличие от будущей стоимости денег, на данный момент заниженной, будущее могущество, напротив, обыкновенно преувеличивается. В пристальном внимании к нынешним восходящим трендам видится устоявшаяся склонность проецировать их в будущее и, так сказать, их предвосхищать, пренебрегая противодействующими факторами и возможными помехами – за исключением наиболее очевидных и значимых. «Волна будущего» поражает куда больше, чем стоячая вода настоящего.
Если вернуться к основной идее данного текста – к несоответствию между нынешним стремительным ростом китайских экономической мощи, военной силы и дипломатического влияния, – то остается определить в конкретных понятиях то, как именно каждое из этих направлений развития Китая может помешать другим странам в ближайшем будущем или мешает им уже сейчас, ведь мы видим противодействие со стороны соседей Китая, других великих держав и прочих стран, которые не относятся ни к тем, ни к другим.
Всего одно несоответствие имеет явную и узнаваемую форму: это противоречие между угрожающей военной позицией и дипломатическим влиянием на любое государство, которое пока сохраняет автономию, то есть не прошло точку невозврата, за которой подчинение более сильной державе принимается как неизбежность. Лишь в последнем случае растущая военная угроза может обеспечивать большее влияние, причем вполне эффективно.
В этом отношении логика стратегии также не может быть линейной: растущая военная угроза обычно усиливает сопротивление и ведет к потере влияния; если угроза сохраняется и усиливается, то подверженная этой угрозе страна пытается перевооружиться или заручиться союзниками (либо сделать то и другое вместе). Но когда угроза продолжает нарастать, опровергая усилия по перевооружению и поиску союзников, достигается кульминационная точка сопротивления. Если другие факторы или силы не вмешаются в процесс и не прервут его, дальнейшее усиление угрозы в большинстве случаев не приведет к дальнейшему усилению сопротивления; наоборот, ситуация будет способствовать установлению более приемлемых взаимоотношений, даже предполагающих полное подчинение.
Поскольку общий баланс сил – экономический потенциал, военная мощь и дипломатическое влияние – продолжает склоняться в пользу Китая, каждому из соседей КНР и каждой другой мировой державе предстоит сделать выбор между принятием усиления китайского влияния (по крайней мере, на дела своих союзников и сателлитов, которые тем самым постепенно превращаются в союзников и сателлитов Китая) и издержками наращивания сопротивления, как через внутреннюю мобилизацию, так и в союзе с другими государствами, которым тоже в той или иной степени угрожает, как они считают, возвышение Китая.
Разумеется, любая реакция на избыток могущества имеет свою цену.
Внутренняя мобилизация может не только потребовать перераспределения скудных ресурсов на военные нужды, если до того дойдет, но и вынудит пожертвовать иными важными интересами и даже ценностями – или по меньшей мере идеологическими постулатами вроде любимого американского тезиса о «свободе торговли». Так происходит потому, что в наш ядерный век, когда крупный конфликт между ядерными державами исключен, логика стратегии должна иметь альтернативное невоенное выражение в форме «геоэкономики»[39]. Безусловно, все сказанное нуждается в обосновании.
Первое условие обосновать легче, нежели второе. Китай располагает ядерным оружием и различными средствами его доставки, далеко не самыми современными, но в совокупности эти факторы оказались достаточно убедительными для того, чтобы осадить Советский Союз в ходе резкого обострения отношений с Китаем (причем в ту пору китайские стратегические ядерные силы находились еще в зачаточном состоянии). С другой стороны, даже дерзкое и бесцеремонное поведение на международной арене после 2008 года, создав Китаю новых врагов, а США – новых друзей, пока и близко не подходит к порогу полного безрассудства, за которым – прямое нападение Китая на Соединенные Штаты Америки или крупные группировки американских вооруженных сил.
Следовательно, для обеих сторон все же остается возможность проведения малых, строго ограниченных локальных операций военного толка – а также для провокаций на море и тому подобного.
Впрочем, мелкие столкновения без нанесения существенного урона не способны помочь США в сдерживании экономического развития Китая – источника всех проблем, позволяющего китайцам наращивать свой военный потенциал. Что касается самого Китая, страна неоднократно пыталась прибегать к мерам устрашения для создания помех США в сборе разведывательной информации на море и в воздухе: на счету КНР один инцидент в воздухе со смертельным исходом, а на море силы сторон несколько раз едва разминулись. Но эти попытки явно недостаточны для сокращения американской разведывательной деятельности, а еще Китаю дали понять, что не стоит использовать более радикальные средства, дабы не спровоцировать полномасштабную войну, исход которой приведет либо к падению китайского режима, либо к вынужденному применению ядерного оружия.
Значит, можно сказать, что, пусть не все формы боевых действий между ядерными державами на текущий момент исключаются ввиду осознания разрушительной силы атомных боеголовок (кульминационная точка полезного использования могущества пройдена), некоторые формы военного противостояния, теоретически способные обеспечить существенное превосходство, пускаются в ход. Это было доказано еще во время холодной войны, ведь советские лидеры ничуть не благоразумнее в применении вооруженной силы своих нынешних китайских коллег.
Что касается второго утверждения – логика стратегии должна найти альтернативное невоенное выражение в «геоэкономике», – нужно для начала уяснить, что логика стратегии остается прежней и в геоэкономическом контексте, разве что выражается посредством коммерции, а не войны.
Отсюда следует, что в геоэкономике возможна сходная эскалация вплоть до полного или практически полного разрыва торговых отношений, что подтверждается отсутствием экономических отношений между США и Кубой.
Такая эскалация, немыслимая во времена нормальных экономических отношений между США и Китаем, может быстро реализоваться «по умолчанию» в случае явной агрессии Китая против третьих стран, включая Тайвань, даже при отсутствии формальных договорных обязательств.
Но наличие возможности еще ни в коем случае не подтверждает истинность нашего утверждения, будто продолжающееся возвышение Китая угрожает независимости соседей и даже партнеров КНР, будто они непременно прибегнут к геоэкономическому сопротивлению, то есть осознают стратегические мотивы конфликта, а не просто ограничатся возведением новых протекционистских барьеров, запретами на инвестиции и на распространение технологий (и даже запретами на экспорт сырья), если поведение Китая послужит поводом к действиям на грани открытой войны.
Таков прогноз на ближайшее будущее, составленный с учетом самых разных современных реалий, прежде всего с учетом того факта, что многие правительства прилагают усилия к расширению экономических связей с Китаем, будь то увеличение экспорта товаров на растущий китайский рынок, налаживание производства непосредственно на китайской территории или привлечение китайских инвестиций. Каждая из этих инициатив препятствует (если не исключает полностью) применению геоэкономических мер, которые могли бы с пользой замедлить экономическое развитие Китая.
Строго говоря, наше предсказание выглядит обоснованным лишь при соблюдении двух взаимосвязанных условий: ядерное оружие станет сдерживать стороны от избытка военного рвения, но соседи Китая и его конкуренты все равно будут защищать свою независимость – геоэкономическими мерами за исключением доступных иных.
Уже сегодня появляются отдельные, разрозненные свидетельства перехода к геоэкономическим действиям; пока это лишь капли в море, но они явно указывают на приближение бури.
В США наблюдается постоянно растущее сопротивление властей всех уровней (федеральных и на уровне штатов) приобретению через госзакупки инфраструктурных и прочих китайских товаров, причем это сопротивление находит все больше сторонников в последние годы. Так, закупленный в Китае новый пролет моста через залив Сан-Франциско[40] сейчас (июнь 2011 года) вызывает больше вопросов, чем в момент заключения контракта на его приобретение (бывшим губернатором). Что касается министерства обороны США, директива FR-45074 от 2 августа 2010 года прямо запрещает закупки боеприпасов для вооруженных сил США у контролируемых Китаем источников; в Конгрессе обсуждается законопроект о полном запрете любых закупок в КНР для нужд американского министерства обороны.
Также в США фактически запрещен импорт китайского телекоммуникационного оборудования и иного инфраструктурного оборудования под угрозой разрыва контрактов министерства обороны с любым поставщиком телекоммуникационных услуг, нарушающим этот запрет.
В Индии аналогичный запрет введен правительством в 2010 году, но с той принципиальной разницей, что если США для Китая лишь потенциальный рынок телекоммуникационного оборудования, то Индия уже давно является крупнейшим рынком соответствующего китайского экспорта.
В Аргентине и Бразилии недавно (2011 год) запретили продажу сельскохозяйственных земель (пахотные земли и ранчо) «иностранцам» – такая мера никогда ранее не применялась, даже если земли скупались европейцами и американцами, зато ее немедленно одобрили законодательно, когда появились покупатели из Китая. Другие латиноамериканские страны также принимают подобные меры.
В Бразилии, где с запозданием поняли, что торговля с Китаем обогащает разве что экспортеров сырья, лишая страну-«донора» собственной промышленности, звучат призывы установить торговые барьеры против китайского импорта, если только Банк Китая не повысит наконец курс юаня. Сходное требование с осторожностью выдвигает и министерство финансов США, последний оплот идеи сотрудничества с Китаем любой ценой (включая деиндустриализацию Америки), идеологически приверженный «свободе торговли» – все равно чем. Но Бразилия стремительно скатывается к положению простого экспортера сырья, и ее правительство все-таки решилось действовать. Другие страны, где еще сохранилась легкая промышленность, наверняка последуют этому примеру.
В Австралии, где для европейских, японских и американских компаний нет запретов на приобретение любых австралийских сырьевых компаний, включая даже крупнейших производителей, все подобные попытки со стороны китайцев де-факто удалось предотвратить административными запретами.
В Монголии, обладающей крупнейшими в мире нетронутыми запасами угля с низким содержанием серы на месторождениях в Таван-Толгое (район Цогтцэций аймака Умнеговь), правительство решило в 2011 году построить железную дорогу на север, в направлении Российской Федерации (до порта Восточный в бухте Врангеля), а не на юг – явно чтобы сдержать рост экономической зависимости от Китая[41].
Конечно, ни одна из перечисленных мер не является достаточно радикальной, ни одна не может считаться скоординированной с другими в едином усилии по замедлению экономического развития Китая. Но каждый из названных примеров говорит об остром ощущении угрозы, каждый пример представляет собой попытку ответить экономическими мерами в узких рамках нынешнего мирового торгового режима, который сложился, еще когда Китай был экономически не слишком значимым, и который сегодня используется китайцами для извлечения односторонних выгод (доступ к передовым иностранным технологиям без действенной защиты чужой интеллектуальной собственности; свободный экспорт фильмов при ограничениях на импорт в размере не более двадцати картин в год; экспорт инфраструктуры при запрете иностранным компаниям участвовать в тендерах на строительство и так далее).
Да, не все на свете страны придерживаются такого же курса, но ни одна другая страна в мире не комбинирует свои огромные размеры со стремительным экономическим развитием.
Пока возвышение Китая воспринимается довольно пассивно вследствие сильной идеологической приверженности доктрине «свободной торговли», но в будущем все наверняка изменится, ведь даже такие ярые сторонники фритрейдерства, как кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни, говорят (июнь 2011 года), что Соединенные Штаты Америки вправе разорвать все торговые связи с Китаем, который, среди прочего, завел привычку воровать американскую интеллектуальную собственность[42]. В более широком смысле контент-анализ, без сомнения, покажет резкое увеличение количества антикитайских экономических мер, предложенных в ходе электоральных циклов после 2008 года; скорее всего, за обилием слов подтянутся и конкретные дела.
Остается лишь гадать, достаточно ли будет всех геоэкономических действий в мировом масштабе для замедления китайского экономического развития настолько, чтобы, например, темпы роста сократились от нынешних 9 % в год до 4–5 % или хотя бы до 6 % (что более вероятно в среднесрочной перспективе). Надо признать, что годовой рост в размере 4 % может нарушить стабильность режима КПК, но позволит сохранить американское лидерство в мире. Так или иначе, логика стратегии предполагает геоэкономическую борьбу, но не может предсказать ее исход. Автор этих строк уверен, что при всех раскладах Китаю в конечном счете не позволят нарушить равновесие сил в мировой политике.
Глава 6
Возвышение Китая и глобальная реакция
Несомненно, китайские власти понимают последствия ядерного сдерживания, но, похоже, по сей день – и справедливо – полагают, что им удастся извлечь выгоду из наращивания военного потенциала КНР – не только ради поддержания военного престижа, но и для того, чтобы запугивать или даже атаковать строптивые безъядерные страны, лишенные «железобетонной» защиты союзных договоров (скажем, Вьетнам).
Другой осмысленной целью наращивания китайского военного потенциала является достижение как минимум локального доминирования над прочими ядерными державами – над Индией, Соединенными Штатами Америки и, возможно, Российской Федерацией – посредством локальных инцидентов без существенного применения смертоносной силы (уже налицо явные проявления недружелюбия и даже откровенно враждебное поведение).
При этом возрастающий военный потенциал Китая может, по крайней мере, замедлить увеличение доминирования других стран, в том числе США; разумеется, поначалу это будет происходить только в каких-то особенно благоприятных для Китая обстоятельствах, но постепенно, с прибавлением могущества, условия для этого значительно расширятся.
Отсюда следует, что соседи Китая, не владеющие ядерным оружием, имеют веские основания накапливать собственную военную мощь в разумных пределах, чтобы сопротивляться запугиванию или даже отражать возможные нападения (война в такой ситуации не кажется нереальной). См. далее об участниках неминуемого сопротивления возвышению Китая и способах противодействия, к которым они прибегают.
Учитывая издержки на сопротивление возвышению Китая, можно ожидать хотя бы молчаливого и тщательно завуалированного (уж всяко не декларируемого открыто) подчинения КНР ряда соседних стран и даже Японии[43]. Но, за возможным исключением Корейской Республики[44], политика принятия китайского господства, ведущая к подчинению гегемонии Китая, вряд ли одержит верх над политикой сопротивления – не только по обычным культурно-политическим или национально значимым соображениям, но и вследствие материальных последствий, которых изрядно опасаются.
Когда после 1945 года Соединенные Штаты Америки распространяли свое влияние по Восточной Азии, почти все взирали на американцев как на благодетелей, а не как на хищников; действительно, США предоставляли материальную помощь и открывали свой рынок для экспорта, тем самым обеспечивая развитие. Даже марксисты, которые в соответствии со своей доктриной видят в США страну, заинтересованную в иностранных рынках и доступе к сырью, не смогли достаточно убедительно изобразить Америку хищником.
Однако сегодня именно так видят Китай и китайцев в соседних странах и за их пределами, пускай Китай превратился в солидного инвестора и импортера (до определенной степени) промышленной продукции; в любом случае КНР уже не просто обычный конкурент в экспорте и соперник для местной промышленности.
Предвзятое отношение к китайцам в Юго-Восточной Азии, где их участие в создании капитала повсеместно признается эксплуататорским (мол, они выводят то самое богатство, которое создают своей предприимчивостью и сбережениями), сказывается, безусловно, на негативном восприятии Китая в целом. Правда, этнический фактор остается постоянной величиной (более того, его значение даже сокращается по мере роста благосостояния, как случилось в Индонезии), а вот стремительное наращивание китайского экономического потенциала и военного могущества внушает все большие опасения.
Соседи боятся, что Китай воспользуется своим возвышением для захвата ценных морских ресурсов, и эта угроза отнюдь не умозрительна в случае, например, архипелага Спратли.
Другое опасение состоит в том, что китайцы станут диктовать новые правила двусторонней торговли, подогнанные, что называется, под себя, начнут требовать доступа китайских инвесторов к местным телекоммуникациям и прочим объектам инфраструктуры, не делая при этом встречных шагов в том же направлении.
На данный момент еще нет никаких признаков того, что возросшая экономическая сила Китая мешает другим странам (скорее, она им помогает) – не считая, конечно, развитых в промышленном отношении стран-конкурентов. Но имеется немало доказательств того, что перемена в отношении к Китаю наблюдается и вне круга этих конкурентов.
Опубликованные недавно результаты международного опроса общественного мнения позволяют показательно сравнить данные 2005 и 2011 годов[45]. Из опросов следует, что всего за шесть лет негативное отношение к экономической роли Китая в мире выросло не только в отдельных странах, но и во всем мире: с 31 до 53 % во Франции, с 37 до 55 % в Канаде, с 44 до 55 % в Германии, с 47 до 57 % в Италии, с 45 до 54 % в Соединенных Штатах Америки. В тех двух странах, где отношение к Китаю в 2005 году было наименее враждебным, оно тоже ухудшилось: с 31 до 41 % в Великобритании и еще более резко в Мексике – с 18 до 43 %. В Восточной Азии наиболее значимы мнения по поводу китайской внешнеторговой политики: ее считают «несправедливой» 58 % южных корейцев и 70 % японцев, хотя пакистанцы и индонезийцы трактуют ее более благожелательно.
Столь быстрое изменение в восприятии Китая отражает не менее быстрое изменение удельного веса страны в мировой экономике. Протекай эти изменения в ином направлении – например, рост стоимости труда сделал бы Китай неконкурентным дома и, соответственно, побуждал бы к более крупным инвестициям за рубеж, – отношение бы к КНР опять-таки изменилось.
Правильно или нет, но нынешний путь потакания и подчинения Китаю видится неверным из-за опасений, что китайская гегемония выльется в эксплуатацию и тем самым станет затратной для объектов этой гегемонии – в отличие от тех исторических прецедентов, когда империя нередко больше тратилась на «дары», чем получала взамен в виде дани от номинальных вассалов. Нынешние китайские теоретики явно воображают нечто другое, когда прославляют систему дани как основу для «китайской школы международных отношений»[46].
Возвышение Китая как военной державы естественным образом вызывает еще более сильную реакцию, что явствует из приведенного выше опроса.
В малых соседних странах респонденты повсеместно негативно настроены по отношению к Китаю: таковых 76 % в Южной Корее, в новейшей истории которой имперским угнетателем была Япония, а китайское господство длилось куда дольше (21 % позитивно относящихся к Китаю, видимо, слишком хорошо помнят Японию). На Филиппинах 63 % опрошенных относятся к Китаю плохо; население этой страны сделалось гораздо более проамериканским с возникновения морского спора с Китаем (29 % благожелательно настроенных к Китаю филиппинцев – это, по-видимому, и живущие в этой стране китайцы); в Австралии недовольных 76 % (не будучи малой страной и не соседствуя с Китаем, Австралия показывает, пожалуй, субъективное отношение).
В самом Китае, что вовсе не удивительно, опрошенные крайне позитивно оценивают наращивание китайского военного могущества: 94 % довольны, лишь 5 % против (вполне возможно, это мнение угнетаемых национальных меньшинств); вдобавок респонденты очень благожелательно настроены в Пакистане (61 % за и 11 % против), что отражает фактически сложившийся союз обеих стран против общего противника – Индии.
В последней только 24 % негативно оценивают Китай, а 44 % относятся позитивно, и это может быть свидетельством общей слабой информированности индийского населения (кроме того, среди опрошенных наверняка были маоисты и синофилы), но многие, по-видимому, просто ничего не знают о Китае, учитывая низкий уровень грамотности в стране (еще хуже ситуация в Пакистане, но там очень высок уровень посещения мечетей, где многие проповедники рассказывают о внешней политике в рамках вечной борьбы ислама с неверными).
С другой стороны, 88 % японцев негативно воспринимают наращивание военного потенциала Китая, что ничуть не удивляет, особенно если учесть, что опрос проводился после 7 сентября 2010 года, когда случился военный инцидент между Японией и Китаем вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао для китайцев) и еще до землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, когда внимание японцев сосредоточилось на пострадавших.
Крайне примечательно, что те же 88 % негативно настроенных опросы выявили в Германии, где всего 2 % опрошенных признались в благожелательном отношении к Китаю, хотя, в отличие от Японии, у Германии, как известно, нет никаких территориальных споров с Китаем, и немцам как будто не пристало видеть угрозу со стороны китайского военного потенциала – до тех пор, пока стоят, что называется, на страже США и Российская Федерация. Но в мировом масштабе больше немцев высказались отрицательно по поводу роста военного могущества Китая, чем жителей США (79 %), Канады (82 %), Великобритании или России (в обоих случаях – 69 %, хотя в России лишь 10 % настроены по отношению к Китаю благоприятно – это куда меньше, чем в Великобритании с ее 25 % одобрения). Наконец, итальянцы, возмущенные торговыми спорами и настроенные более антимилитаристски в целом, обеспечили 81 % негативных голосов.
Если исключить ошибочность приведенных данных, то возникает интересная картина: отношение немцев к наращиванию военной мощи Китая отражает не враждебность и не опасение, а скорее этакую благоприятную обеспокоенность. Немцы склонны хорошо помнить свою недавнюю историю, развивавшуюся по молниеносной траектории подъема, – от успехов в науке, культуре, промышленности и финансах в конце девятнадцатого столетия и до катастрофического разгрома в Первой мировой войне и трех еще более катастрофических следующих десятилетий. Возможно, немцы видят параллели своей истории в развитии современного Китая, чей военный потенциал растет пропорционально бурным успехам экономики, так что воспринимается одновременно как соразмерный внутри страны и как активно угрожающий – на международном уровне. Этого более чем достаточно для ответной мобилизации и подготовки к конфронтации и конфликту (сравнение двух стран будет продолжено ниже).
Само китайское правительство (с которым солидарно, по-видимому, общественное мнение Китая) считает быстрое увеличение военных расходов «разумным и достаточным шагом» (если процитировать «Национальный доклад по обороне» за 2010 год[47]); это прекрасный пример великодержавного аутизма, необходимого условия обширной стратегической неудачи, что в специфически китайском виде особенно насущно.