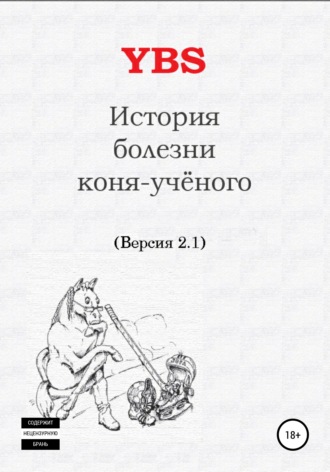
YBS
История болезни коня-ученого
К Лаврентию Палычу у меня особое личное отношение – из-за него я единственный раз в жизни огреб от собственного отца. Когда пошел слух, что Берия расстрелян, мы с приятелем Витькой – он шести лет, а я – трех с половиной, во дворе дома, где мы жили, а наши отцы – и работали, исполнили услышанную где-то частушку
Берия, Берия
вышел из доверия,
а товарищ Маленков
надавал ему пинков.
Отцы наши вышли на улицу с черными лицами, и там же обоим всыпали по задницам. Единственный раз в жизни, потому и запомнил хорошо. А отцы, наученные горьким жизненным опытом, знали, что бывает за детскую болтовню, выдающую «кому надо», о чем говорят взрослые за закрытыми дверями своих комнат. До меня же все это дошло только существенно позже с осознанием, в каком времени мы жили, и чем могли обернуться наши куплеты.[13]
И само это подведомственное Лаврентию «Динамо» я с детства недолюбливаю – под воздействием отцовского воспитания и жизненного опыта повсеместного столкновения со щупальцами этого монстра, охватывающими жизнь всей страны. В любом самом маленьком городишке его главная футбольная команда и стадион назывались «Динамо», а ее родительские структуры бдили над всей нашей жизнью.
Об истории гибели ЦДСА воспоминания проскальзывали в рассказах отца и других старых болельщиков, которые намекали или прямо говорили, кому мы обязаны своим несчастьем. И это при том, что было не совсем понятно, закончились «строгие времена» или нет, и можно ли уже рассуждать и предаваться воспоминаниям. Тогда, в 50-е, я всего этого по малолетству толком не понимал, но осадочек откладывался. Была и еще одна вполне материальная причина: мы жили у самого динамовского стадиона, и их болельщики в Петровском парке водились чуть ли не за каждым кустом. Вели себя нагло и задирали армейцев.
Ирония судьбы, но нынешние молодые армейские болельщики считают союзниками динамиков, наших исторических могильщиков! Между прочим, еще до эпохи исторического материализма армейские и гвардейские брезговали жандармским руку подавать.
В 54-м футбольный ЦДСА восстановили, но хребет был переломан и срастался потом мучительно. Была разрушена преемственность поколений и победная психология. Гринин и Николаев оставили футбол по возрасту, Никаноров, Нырков и Демин вернулись в состав, но уже почти не играли. По-настоящему продолжили карьеру только Башашкин и Петров. Лишился работы в ЦДСА и Борис Аркадьев. И все они перенесли страшный психологический шок. Наверное, не случайно почти весь тот состав: и режимившие, как Федотов, и пренебрегавшие, как Демин, очень рано ушли из жизни. Только отличавшийся невероятной энергией Николаев да фронтовик Нырков дожили до очень преклонного возраста.

«Конь» на коне. Я этого не помню, но вот нашелся документ в семейном архиве.
Государство передумало нас убивать, но с мамой по-прежнему было нехорошо. Ее положили в Боткинку, прооперировали, а потом долго долечивали. Сначала папа ходил к ней в больницу один, а потом, когда маме разрешили выходить ненадолго на улицу, стал брать меня с собой. В туберкулезный барак меня не пускали – боялись, потому что там было много больных с открытой формой.
Тогда Боткинская больница, кроме большого корпуса, состояла из множества бараков (в том числе, и туберкулезных – мужского и женского). Отец пристраивал меня к добродушным возницам, которые на запряженных лошадками санях развозили по больничным баракам молоко в больших жестяных бидонах, и я так катался по всей Боткинке. Было очень здорово: фонари светят, снег скрипит, лошадка фырчит… На остановках, пока вытаскивали бидоны с молоком и грузили порожние, можно было подойти к лошадке и погладить ее. Сделав круг по больнице, меня высаживали у туберкулезного барака, и мы с папой шли домой. Потом маму выписали, и в санках, запряженных настоящими конями, я больше не катался…
Мама уволилась с работы по болезни, а ее персональное дело из-за романа Гроссмана утратило актуальность – наступали новые времена.
Наступали они противоречиво да к тому же у меня наложились на период формирования личности, когда осознаются фундаментальные понятия о жизни и смерти. Я был «политизированным ребенком» – слушал наш двухпрограммный радиоприемник и переживал из-за корейской войны – дикторы очень ругали американских «поджигателей войны», а меня беспокоила перспектива погибнуть в ядерной катастрофе.
Тогда же, поздней весной 54-го, значит, мне еще не исполнилось четырех, как-то вечером папа пришел с работы и сказал, что ему достался билет в Мавзолей Ленина и Сталина. В Мавзолей тогда ходили по билетам, которые распространяли по организациям, вот и до БПК очередь дошла. Мне сказали, что надо будет очень рано встать, и мы поедем на автобусе.
Конечно, наутро я проснулся, как только родители зашевелились, и стал одеваться. Было еще совсем темно, когда мы вышли во двор к автобусу БПК – мне очень понравилось, как водитель открывает дверь с помощью длинного складывающегося никелированного рычага. Все еще в полной темноте мы подкатили к ограде Александровского сада, и вскоре милиционеры стали выстраивать очередь, покрикивая: – Граждане, вставайте в колонну по четыре!
Мы стояли так очень долго, а потом вдоль толпы, хвоста которой я с папиных плеч уже не видел, снова побежали милиционеры: – Граждане, приготовьте билеты!
Билеты проверяли при входе в сад, потом – уже в очереди, потом на выходе из сада. Мне казалось, что все это тянется безумно долго, вроде бы можно было поговорить с папой, но все кругом говорили приглушенно или шепотом, и я стеснялся.
На Красной площади мы оказались, когда рассвело – было, скорее всего, около восьми… Очередь двигалась рывками, а нам еще и повезло – когда мы оказались перед входом, стали бить часы на Спасской башне, и к Мавзолею, печатая шаг, подошла смена караула. Пожалуй, это мне понравилось больше всего – как бойцы с оружейным лязгом и совершенно механическими движениями мгновенно поменялись местами, и смена застыла, как каменная.
И вот, наконец, мы в Мавзолее! При входе папе сказали спустить меня на землю, а потом можно будет взять на руки. Полутьма, красное и черное, ступени вниз. В зале я сначала увидел яркий свет в центре, а только потом – лежащих за стеклом вождей. Дедушка Ленин, о котором я слышал столько хорошего, был в темном костюме, всё, как обещали – с высоким лбом, похожий на портреты. Дедушка Сталин, конечно, выглядел поярче – он был в мундире генералиссимуса с красивыми погонами, геройскими звездами и орденскими ленточками.
Очередь медленно двигалась мимо саркофагов, а меня мучил вопрос – по радио я же все время слышал, что Ленин – вечно живой. И вот я никак не мог решить – вожди умерли или все-таки, может, спят?
У меня с идеологией трудности вообще с раннего детства. В «Черном лебеде» центрального отопления не было, зато была котельная, в которой работало несколько истопников. Одного из них, добродушного пожилого мужика по имели Ермолай, но которого все во дворе звали «дядя Милеша», он, действительно, был добрым и как-то очень тепло относился к нам, институтским детям. И вот с ним у меня оказался связан первый в жизни неразрешимый философский вопрос. В свои четыре—пять лет я был совершенно индоктринирован коммунистической идеологией и никак не мог уложить в голове: как же в коммунизме, который должен наступить в ближайшем будущем, будет с дядей Милешей? Ведь он в своей вымазанной углем телогрейке, всегда немножко под хмельком, никак не монтировался с идеальным обществом, куда все мы следовали… Я испугался мысли, что для наступления коммунизма придется ждать, когда он умрет, а с другой стороны, ужасно жалел, что ему не достанется такого счастья…
Тогда же оказалось, что дружба народов и социалистический интернационализм – это не совсем то, что говорят окружающие. Как-то во дворе старшие девчонки стали меня дразнить: – Еврей, еврей! Я не знал, что это такое, но, как и любой ребенок, прекрасно почувствовал, что меня хотят обидеть. Из объяснений родителей, я понял, что изначально принадлежу к какой-то особой группе людей, которую некоторые неизвестно за что ненавидят. Позже я предпочитал сразу обозначать свою национальную принадлежность – во избежание недоразумений.
Первый шаг в самостоятельность
И как же так получилось, что я за ЦДСА стал болеть при папе – отчаянном спартаковце? Сам он попал в красно-белые в 38-м году, когда окончив школу с «золотой рамкой»[14], приехал из своего родного Днепропетровска в Москву и поступил в Энергетический Институт. Конечно, одним из первейших этапов его знакомства со столицей стало посещение футбола, а там оказалось, что за команду промкооперации играют его кумиры из родного города – Лайко и Корнилов, и судьба его симпатий была решена.
Папа был для меня абсолютным авторитетом и, объективно, весьма яркой личностью, выделявшейся в тогдашней веселой компании молодых инженеров БПК. Помимо напряженной работы над прямоточными котлами во всех уголках страны Бюро жило весьма насыщенной жизнью: регулярно устраивались концерты художественной самодеятельности, и одним из их организаторов и непременным пианистом-аккомпаниатором был мой отец. Лет с четырех он и меня стал втягивать в эти затеи – ставил на стул, и я читал всякие шуточные стихи. Не уверен, что это было педагогично, но все же научило меня не бояться аудитории.
С этими концертами связан еще один из когнитивных диссонансов, преследовавших меня всю жизнь. К праздникам в большом зале БПК над сценой вешали праздничный плакат: «Да здравствует такая-то годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции!» На моей памяти самая ранняя такая надпись желала здоровья 36-й годовщине. Я по детской наивности попытался осмыслить этот лозунг и оказался в тупике: ясно же, что независимо от пожеланий годовщине, она все равно назавтра скончается в 0 часов 0 минут. Наверное, хотели сказать, что очень рады, что этот праздник наступил, но написали – бессмыслицу…
Однако сами праздники меня очень радовали, потому что, во-первых, в эти дни почти всегда возвращался из командировок папа, которого я редко видел, а, во-вторых, устраивали салют. Салют сильно отличался от нынешних: еще не было всяких «мерцающих залпов», зато все небо было исполосовано лучами прожекторов, которые оставались на вооружении у войск ПВО. Помню, кто-то из взрослых мне сказал, что попадание вражеского самолета в перекрест двух лучей прожекторов означал почти наверняка, что его собьют. Механизм этого я тогда не понял и просто поверил, а сам додумался, в чем тут дело, много позже. Потом, еще до начала 60-х, прожекторное шоу исчезло.

"Конек". Собственность автора
Очень большое место в БПК занимали всяческие спортивные затеи: проводились первенства по бильярду и пинг-понгу, команда Бюро по волейболу играла в первенстве района. И во всем этом мой папа принимал активнейшее участие и с успехом. Он и болельщиком меня сделал – мы вместе смотрели матчи, и папа объяснял правила и рассказывал про довоенный футбол. Однако такие счастливые мгновения выпадали нечасто – мой папа принадлежал к многочисленному племени «командировочных отцов» – жизнь состояла из его отлучек на месяц на тепловые электростанции от Щекино до Южно-Уральска и Ангарска, перемежающихся неделей, а то и несколькими днями побывки дома.
А остальное время меня воспитывала мама, которая настоящей болельщицей, конечно, не была, но…

Полковник Петр Костинский, подполковник Яков Костинский, инженер-лейтенант Бастиона Костинская. Семейный архив
Такая была эпоха – большая часть страны ходила в погонах, и в семье моих деда и бабки с материнской стороны из четырех детей трое стали офицерами. Вот даже моя мама… Она окончила школу в Киеве в 40-м году, тоже с «золотой рамкой», и поступила в Киевский Политехнический Институт на престижный радиофакультет. Однако в сентябре 41-го его пришлось бросить и с одним из последних эшелонов вырваться из родного города – средний брат Миша добыл для своей мачехи и сестры эвакуационные удостоверения, без которых не пропускали на левый берег Днепра. А все оставшиеся под оккупацией родственники вскоре были убиты. После труднейшей дороги мама оказалась в Восточном Казахстане, отработала год в колхозе и на минометном заводе, а затем была зачислена в Ленинградский Военный Гидрометеорологический Институт, и 9 января 43-года – ровно в день своего 20-летия – принесла воинскую присягу. Неудивительно поэтому, что все ее подруги и друзья тоже были офицерами.
К тому же все то время было буквально пропитано воспоминаниями о тогда еще совсем недавней войне. В Петровском парке, где в войну стояли зенитки, оставались воронки от немецких бомб. Помню, как совсем маленьким спустился в одну из них, и показалось, что она очень глубока, а неба над головой – только голубой клочок… Дом «Военторга» на Ленинградке и здание Глазной больницы на Горького были покрыты противовоздушным камуфляжем – деревьями, их закрасили только в начале 60-х. Кругом было полно военных – и Академия Жуковского, и еще множество всяких подразделений, а на Ходынском поле вообще было их царство. Там и моя мама потом работала, а я, уже будучи школьником, ходил обедать к ней в столовую мимо часового – автоматчика в тулупе.
Понимать понемногу, что к чему в футболе, под влиянием отца я начал довольно рано и вполне отчетливо помню некоторые матчи 54-го года. Старые болельщики, вспоминая «команду лейтенантов», закатывали глаза, вздыхали: – Федотов! Бобров! Гринин! Никаноров! Нырков! А возрожденный ЦДСА только поднимался после трагедии 52-го. Но в других-то видах спорта ЦДСА был безоговорочным фаворитом с самыми лучшими игроками – чемпионами СССР, Европы и мира! Баскетбол Алачачяна, Бочкарева и Семенова, волейбол – Чеснокова, Мондзалевского и Буробина! Мы даже легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу 2-го мая выигрывали чаще всех.
А главное, хоккеи – русский, в котором у нас был лучший вратарь Мельников, лучший хав Панин, лучший форвард – Осинцев, и канадский – где имена армейцев звучали, как молитва, список личного состава небесных сфер. Они были вне сравнения с другими игроками сборной – Бобров, Бабич и Шувалов – это, конечно, были боги – всеведущие и всемогущие. Я во все вот это просто не мог не влюбиться, и это было мое первое в жизни решение, которое я выбрал самостоятельно и вопреки предпочтениям любимого папы.
Шарж из Интернета
Вот он, вернувшись как-то раз из очередной командировки, и обнаружил, что его сын – готовый болельщик ЦДСА. У отца хватило такта уважать мой выбор, как и во всей дальнейшей жизни. Папа утешался только тем, что футбольный «Спартак» – чемпион, а команда сына держится где-то в районе третьего места. Ничего, зимой чаще отводил душу я, и постепенно мы нашли такой modus vivendi, который позволял сосуществовать без обид и конфликтов, но, конечно, особенно с возрастом – не без подначек по поводу «успехов» команд друг друга…
Футбол в моем детстве надолго стал моей любимой игрой. Я рос в окружении настоящих болельщиков, увлеченных футболом, помнящих великих еще довоенной поры, критичных, в том числе и к своим. Футболом интересовались серьезно, это был один из важнейших предметов обсуждения в курилках.

Задний двор БПК на Нарышкинской. Я за любимым делом. Семейный архив
Иногда в БПК в компанию десятка настоящих болельщиков зазывали бывших футболистов на «вечера встреч» в комнатах отдела Пуска и наладки котлов. Лучше всего, помню Портнова – бека «команды лейтенантов», который основным не был, но играл частенько. Его привел кто-то из знакомых с ним сотрудников. Я сидел, не дыша, мне было-то лет шесть – а передо мной настоящий живой футболист ЦДСА, еще того – легендарного. Помню, как он со вздохом сказал, что перед одним из решающих матчей с «Динамо» Кочетков травмировался, и было известно, что играть ему, а его трясло, и он вспоминал об этом вдруг задрожавшим голосом: – Конечно, кто – Кочетков, и кто – Портнов. Не верили в меня…
Но он тогда выиграл. Помнится, ни разу в карьере не набрал матчей на золотую медаль, но в тот раз команду выручил, и она первое место взяла.
Футбол я любил не только смотреть, но и играл в него сам. На заднем дворе, отгороженном от Петровского парка зданием виллы, два дерева назначались штангами ворот, в которые били волейбольным мячом мальчишки – сыновья сотрудников БПК, а я чаще был вратарем и, конечно, говорил, что я – Разинский, как вратарь ЦДСА. После того, как пропускал гол, немедленно получал от товарищей – «вратарь-разиня». Очень переживал и за себя, и за то, что у кумира такая фамилия. Иногда в обед или после работы выходили погонять мячик вместе с нами наши отцы и их коллеги. Правда, чаще взрослые сами затевали свои игры – в основном, в волейбол.
Туда же на задний двор выходила и пристроенная к дому каменная терраса, а под ней был устроен грот. Из грота под дом вел лаз. Ребята говорили, что это подземный ход, который ведет к кладу, спрятанному Рябушинскими, когда те убегали из России[15]. Все мы пробовали туда протиснуться, но уползти дальше, чем метра на два не удавалось – дыра становилась совсем тесной и темной. До сих пор интересно – где же тот лаз заканчивался?
В том, что дом содержит тайну, мы не сомневались, а тут еще году в 56-м вдруг приехали из Америки какие-то внучатые Рябушинские. Тогда это было двойной сенсацией: во-первых, из самой Америки, в которой живут буржуи, а, во-вторых, они прикатили на совсем новенькой, не виденной нами до того «Волге». Американские Рябушинские обошли виллу, а потом попросили показать им барельеф лебедя в вестибюле. Я этот барельеф помнил, но к тому времени его заставили какими-то канцелярскими шкафами. Институтские мужики поднапряглись, растащили их, и визитеры простояли перед барельефом минут десять. Мы, пацаны, были уверены, что этот барельеф как-то связан с легендарным кладом, и пытались подсмотреть, что они будут с ним делать. А они просто постояли у барельефа с серьезными лицами, вздохнули и ушли…
Вторым после футбола главным занятием была игра в войну. Особенно здорово было играть, когда музкоманду Жуковки, что стояла у нас за забором, расформировали, а от них в казарме остались целые ящики погон разных цветов, с разными эмблемами и лычками. Такой экипировки не было ни у кого на много улиц окрест. Играли мы там же, на «заднем дворе», за которым простирались какие-то сараи и казармы, в частности, еще одного военного оркестра, которые тогда были любимой и непременной деталью каждой серьезной воинской части. Оттуда, как и со стороны музкоманды Жуковки, нас регулярно потчевали образцами советского маршевого искусства.
Третьим любимым занятием детства, быстро вышедшим на первое место, стало чтение. Одним из стимулов к скорейшему им овладению были поздние сеансы в кино. С тех пор, как мне исполнилось года четыре, родители повадились на эти сеансы ходить. Папа бывал в Москве мало, и они с мамой стремились побыть вдвоем, они ведь были еще совсем молодыми людьми…
Меня уговаривали, что я уже взрослый, но, поскольку было очевидно, что одному поздним вечером мне оставаться страшновато, они просили кого-нибудь из соседок заглядывать ко мне время от времени. Хотя мне и приказывали спать, но я дотягивал до родительского возвращения, борясь со сном и страхом одновременно. Примерно тогда я стал учиться читать и в четыре с половиной уже знал все буквы. Помню, как я вдруг осознал, что не веду по странице пальцем, а удерживаю строку взглядом и не складываю в уме слоги, а прочитываю слово целиком. Так ждать родителей оказалось намного легче…
Отец очень заботился познакомить меня с книгами обязательной с его точки зрения программы – «Робинзоном Крузо», «Путешествиями Гулливера», Жюлем Верном, а позже – «Спартаком» Джованьоли и ставшими моими любимыми «Уленшпигелем» и «Бравым солдатом Швейком». Совмещение двух удовольствий – чтения и футбола – наступило несколько позже – во втором классе со знакомством с газетой «Советский Спорт». Много лет спустя сочетание «футбол и чтение» превратилось в триаду «Футбол – чтение – писательство» и породило, в конце концов, эту книжку.
Были и развлечения экзотические, о которых я привык думать, как о недостижимом счастье. Например, когда мама отправлялась в ГУМ и брала меня с собой, мы первым делом шли на 2-ю линию и поднимались на 2-й этаж. Там на балконе со стороны улицы 25-го Октября (Никольской) на огромном столе стояла игрушечная железная дорога – там были горы и долины, автодороги, маленький вокзальчик, а между всем этим по кругу носился, то исчезая в тоннелях, то появляясь на поверхности, поезд с паровозиком впереди. Когда он проезжал дорожный переезд, опускался маленький шлагбаум, а когда миновал – поднимался. Мама могла спокойно оставить меня там хоть на час, абсолютно не сомневаясь, что я оттуда никуда не денусь.
Железная дорога – несбыточная мечта любого тогдашнего советского мальчика, как и педальный автомобиль – я даже не мечтал об этом и не пытался просить у родителей, понимая, что и не найти его, и не по карману это нашей семье. Уговаривал себя, что мое умение кататься на двухколесном велосипеде, которому в 5 лет научил меня папа, куда более достойно взрослого парня, чем эта детская забава, но глубоко внутри себя, мечтал, конечно…


