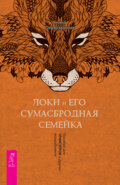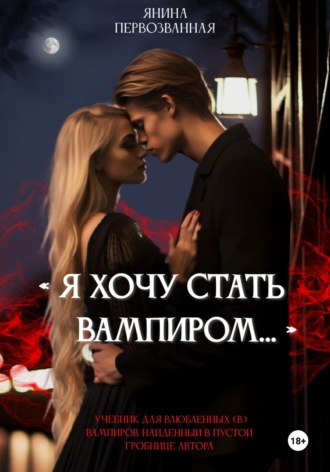
Янина Первозванная
Я хочу стать Вампиром…
Шири могла бы написать тысячу и один стих на тысячи и одном языке мира, выразить потерю, глубину которой до конца не представляла даже она сама. Но ни в одном языке, который она знала, не было подходящих слов. Кроме молчания. И она молчала.
– Не печалься, дитя, – один из голосов снова обратился к ней, – он слишком близко подошел к бездне и не был готов к этому. Мы все знали, что это может случиться. И хорошо, что случилось только это.
Шири молчала. Она знала, что Старейшины были правы. Скоро для нее и для всего клана откроется новая глава. Но пока не было ничего, кроме пустоты. Хотя, пожалуй, даже пустоты не было.
Двери за их спинами снова открылись, и они медленно вышли обратно в коридор. Первой шла Эфрат, за ней Рахмиэль и последней – Шири. Ей так хотелось обернуться и увидеть его, но за ней никого не было. В этом мире больше не было ее кудрявого пианиста.
Глава восьмая. Вместе
Никто ничего не говорил. До тех пор, пока Овадия не нарушил тишину.
– Его не было уже давно, ты же знаешь. Люди, как и мы, абсолютно разные и никогда не скажешь наверняка, что с ними произойдет. Я даже не могу сказать, что мы сами вне опасности, – закончил он.
Они сидели в комнате, которую отвели для Шири. Перед тем, как собраться, они вытащили запасы из всех мини-баров и перенесли сюда. Теперь на диване, где рядом сидели Эфрат и Рахмиэль, лежали пара литров крови, где каждый мог найти любимую группу, страну происхождения, возраст и пол донора, а иногда даже род занятий. Последнее мало кого волновало, ведь доноры редко говорили правду, но это было и не нужно, кровь расскажет обо всем, что вы захотите знать.
Шири продолжала молча сидеть со взглядом, направленным в пустоту, которой теперь стало более, чем достаточно. Пустота была повсюду: в ее будущем, что исчезло за одно мгновение, в ее доме, который опустел и затих, в ее планах, где она больше не видела выставок и биеннале в компании, которой она так наслаждалась. Ей вот уже почти час рассказывали о том, что поведение Гедальи в последние месяцы переливалось всеми оттенками безумия, что делать такого «одним из» означало бы открыть двери кошмару, ведь рано или поздно он бы окончательно утратил контроль и его пришлось бы уничтожить. Для тех, кто не отличает добро от зла, кто постоянно нуждается в чьем-то руководстве и покровительстве, другого пути просто нет. И Шири знала, что они правы. А потому продолжала спокойно сидеть. В абсолютной тишине, в которой больше не слышно было звуков фортепиано.
– Почему тебе так нравится фортепианная музыка? – раздался голос Эфрат.
Шири не ответила. Она сама не знала. Или не помнила. А может быть, помнила и просто не хотела вспоминать снова. Всегда, когда она слышала звуки фортепиано, она менялась, менялся мир вокруг нее. Все вдруг становилось настоящим, наполненным смыслом, как если бы она не смотрела на мир глазами, а слушала его и, если бы мир существовал только пока звучит музыка. И когда музыка обрывается, мир умирает вместе с ней.
– Я не помню, – наконец произнесла она, потому что даже в таких условиях она оставалась леди, а леди отвечают на вопросы друзей, это важно. Что бы там ни говорил Раз.
Эфрат поверила ее ответу. На ближайшие несколько месяцев.
– Овадия, а что ты имел ввиду, когда сказал, что не уверен в нашей общей безопасности? – поинтересовалась Эфрат. Сама того не заметив, она обняла Рахмиэля еще крепче, чему тот пусть и удивился, но вида не подал.
– Мы уже говорили об этом, – ответил Овадия, – но ты права, мы не вдавались в подробности. Существует легенда, она нигде не записана, но передается от одного из нас к другому. Что бездна, из которой пришла наша сила, однажды захочет сделать этот мир своим. Не то, чтобы полностью, но в большей степени, нежели сейчас.
– Как если бы ей захотелось 51% акций компании? – спросил Рахмиэль.
– Именно, – кивнул Овадия, – и лично мне эта идея импонирует.
– Почему? – поинтересовалась Эфрат. Что-то в его словах вызвало у нее любопытство.
– Потому что я считаю, что это естественный ход вещей, который надо поддерживать, если уж мы все оказались в это время в этом месте.
– Если уж мы все вообще случились, – раздался голос Шири.
Присутствовавшие в комнате посмотрели на нее. А Шири продолжила:
– Мне всегда казалось наше существование чем-то намного более естественным, чем существование людей.
– Об этом тоже есть предание, – сказал Овадия. – Кто-нибудь желает послушать?
– Есть по меньшей мере один, которому будет точно не лишним узнать о нас больше, – ответила Эфрат.
– Согласен, моя богиня, – эти слова спровоцировали легкую морщинку на лбу Лии, – есть мнение, что вампиры и другие создания ночи не задумывались никем изначально, мы и прочие случились как неизбежное проявление хаоса, действие вселенной, которая не терпит ограничений и стагнации. Вселенная в мудрости своей дополнила красивый план «я создам человека и однажды он станет богом», внеся в это сомнительное предприятие элемент гибкости и новизны. Человек, может быть, и станет богом, но открытым остается вопрос: каким именно?
– Все мы когда-то были людьми … – начала Эфрат, – все, кроме …
– Да, Старейшины никогда людьми не были, – подтвердил ее предположение Овадия.
– Тогда кем они были до того, как появились те, кто назвал их «Старейшинами»? – задал вопрос молчавший все это время Раз. Он сидел на кровати, скрестив ноги и закутавшись в свои черные бесформенные одежды, рыжие кудри делали его кожу еще бледнее, а янтарные глаза – еще ярче, Эфрат всегда казалось, что в нем живет пламя, которое никак не может обрести покой, хотя бы потому, что его не ищет.
– Хороший вопрос, Раз, – Овадия, составлявший ему яркий контраст, тем не менее, всегда любил разговоры с этим рыжим проходимцем, ведь кто еще соберет мудрость со всего мира и принесет тебе ее за бокалом первой отрицательной. – Об этом есть самые разные легенды, я придерживаюсь той, которая говорит, что когда-то в этом мире жили две очень похожие друг на друга расы. Одни просыпались, когда всходило солнце, и засыпали, когда в мир проливался холодный свет луны. Ведь вместе, когда луна появлялась на небе, просыпалась вторые, ночные жители этого мира.
Лия подошла к лежащим на диване пластиковым пакетам и взяла один не глядя, чтобы наполнить свой бокал и для Овадии. Она всегда любила слушать его истории, ей искренне казалось, что он знал все на свете, что, разумеется, было не так, но ее это совершенно не волновало. Она отодвинула один из стульев, стоящий вокруг стола, и села рядом с Овадией, напротив Шири.
– Жизнь в мире шла без каких-либо изменений или волнений, казалось, они могут жить так целую вечность, – продолжал Овадия.
– Сейчас что-то будет, – тихо рассмеялась Лия.
– Ты права, несравненная. Их безмятежное существование нарушила сила больше, чем все они вместе и каждый из них в отдельности. Видите ли, сегодня люди уверены, что мир, в котором они живут, это некий неодушевленный предмет…
– Люди считают, что все вокруг – отражение их самих, и что все они одинаковые, – вздохнула Эфрат.
– Однако, они ошибаются и в первом, и во втором, – Овадия принял из рук Лии полный бокал и продолжил, – мир жаждал движения, точнее жаждала, ведь все мы знаем, что планета Земля – это она, и ей хотелось больше жизни, больше действия, ведь даже для нее жизнь, которую вели Дневная и Ночная расы почти никак не менялась и не двигалась с места. Они были слишком отстраненными, слишком погруженными в себя и в изучение процессов за пределами видимого мира, чтобы обеспечить миру видимому достаточно движения. И тогда пришли люди…
– Мне никогда не нравилось слово «пришли» … – Шири все так же смотрела в пространство.
– Особенно когда за этим следует «люди», – поддержала Эфрат.
– А можно их как-то обратно отправить? – с надеждой спросил Раз.
– Историю не перепишешь, – ответил Овадия, – по крайней мере, если ты хочешь сохранить понимание происходящего, этого делать не стоит. Пожалуйста, – он сделал паузу, предвещая реакцию аудитории, – ничего не говорите про людей и то, как они относятся к истории.
Лия хохотнула и сделала следующий глоток. Овадия продолжал свой рассказ.
– Люди были повсюду и распространялись со скоростью, к которой старым расам было сложно адаптироваться. Скоро стало понятно, что мир меняется и меняется так, чтобы быть удобным для людей. Дневная и Ночная расы замечали, что среда становится враждебной к ним, что сил у них становится все меньше и им пришлось задуматься над тем, как выжить. И они выжили. Дневная раса включалась в человеческий генофонд, в силу своей близости к природе, которая делала их совместимыми с людьми. Ночная же раса включила людей в свою пищевую цепочку. Просто потому, что изначально помимо этого мира у них был еще один, тот, откуда они пришли и в который всегда хотели вернуться. И если когда-нибудь наши Старейшины расскажут нам подробности этой истории, это будет большой удачей для нас.
Шири слышала его голос где-то на периферии сознания. Все ее планы, которые она строила, все их шутки, звучавшие в этой комнате еще какие-то часы назад, все это сейчас казалось какой-то злой издевкой. Она старалась отстраниться от своих чувств, любое прикосновение к ним сейчас напоминало прыжок с поезда, идущего на полном ходу, – удар об землю не убьет тебя, но боль будет невыносимой. Этот поезд должен был отвезти ее в идеальное будущее, а теперь она едва понимала, что происходит. Где-то далеко раздавался голос Рахмиэля.
– Похоже на легенды о светлых и темных эльфах. Существах с невероятно высоким интеллектом и такой же высокой продолжительностью жизни. Их всегда описывают как отстраненных от мира и всего, что с нем происходит, занятых делами своего народа и той части мира, в которой они живут.
– Очень похоже, – задумчиво сказал Овадия.
– Компьютерные игры все же развивают, – Эфрат улыбнулась, потому что они вместе играли несколько недель назад, и эльфийская легенда была в заставке игры.
– О, я едва не забыл, – Овадия обернулся к ним, – Рахмиэль, завтра пригласят художника. Нужно написать твой портрет.
– А фотография не подойдет? – спросил Рахмиэль.
Лия улыбнулась и опустила глаза. Овадия какое-то время молчал, но потом все же ответил:
– Нет, фотография не подойдет.
– Хорошо, что у нас еще есть время для первой охоты, – Эфрат с удовольствием посмотрела на Рахмиэля и провела рукой по его осветленным волосам.
– Кстати, ты серьезно говорила, что «это навсегда»? – Рахмиэль повернулся к Эфрат с выражением легкого беспокойства на лице.
Любая другая на месте Эфрат, или почти любая, подумала бы, что речь идет о романтических узах, но Эфрат слишком хорошо успела узнать своего избранника.
– Нет, если ты обрежешь волосы, они отрастут снова. Только очень, очень медленно.
– Насколько медленно? – поинтересовался он.
– Мои отрастали несколько столетий, – ответила Эфрат.
– Твои локоны способны опоясать землю, богиня, а его прическа займет от силы лет пятьдесят, – рассмеялся Овадия.
– Да, ты говорила серьезно, я обречен носить эту прическу вечно.
– Брось. Тебе идет. Неужели ты не хочешь пару десятков лет походить … как бы это сказать… с прической древнего египтянина? – поинтересовалась Эфрат.
– Я обескуражен, – Раз снова заговорил, – и любой, кто знает твою историю и видит тебя, сейчас тоже.
– Я сказала египтянина, а не египтянки, – Эфрат старалась не смеяться, получалась плохо. Хотя при этом она и Рахмиэль были единственными, кого Шири не могла видеть, потому что они сидели за ее спиной. Эфрат все же старалась вести себя деликатнее, несмотря на то, что не сомневалась в стойкости своей подруги.
– Это сильно прояснило ситуацию, – Рахмиэль все еще не понимал, что она хочет сказать.
– Да Боги Ночи! – закатила глаза Лия, – она спрашивает, не хочешь ли ты походить пару десятков лет отвратительно лысым!
Все присутствующие выразили единогласное отвращение при мысли о подобной безвкусице. Даже Шири не смогла оставаться безучастной и вздохнула, приложив руку к груди.
– Я скорее спрыгну с одной из арок миланского собора, – ответил Рахмиэль.
– Мой мальчик, – сказала Эфрат и поцеловала его.
– Но все же, почему так долго? – спросил Рахмиэль.
– Дело в том, друг мой, – отозвался Овадия, – что у нас другие отношения со временем.
– Да, оно нас избегает, – подтвердил Раз.
– И в твоем случае я его отлично понимаю, – скорчила гримасу Лия.
– Я начинаю думать, что ты ко мне неравнодушна, – Раз игриво подмигнул ей.
– Как же вас много, – раздался тихий голос Шири. Все замолчали, – как будто вы все одновременно звучите в каждом уголке моего сознания.
– Эй, – Раз спрыгнул с кровати и подошел, чтобы обнять ее за плечи, – я знаю, что тебе погано. Но мы все наконец вместе.
– Я знаю. – Шири положила свою руку поверх его руки. Ее тонкие пальцы были увенчаны все теми же рубинами безупречного маникюра. Впрочем, вся она была безупречна, как будто ничего не случилось.
– Когда я думал, что эта безумная погибла в очередном пожаре…
– Ты с расстройства поджег Бостон? – слабо улыбнулась Шири.
– Нет, это была я, – поспешила подтвердить свои авторские права Эфрат.
– Серьезно? – Рахмиэль посмотрел на нее с некоторым беспокойством.
– Может быть, – уклончиво ответила она.
– Я был безутешен и открыл бордель, – закончил свою мысль Раз.
– Я вне себя от удивления, – произнесла Лия и поставила на стол пустой бокал.
– Как и все мы, – поддержал ее Овадия.
– Это был хороший бордель, чтоб вы знали, – парировал Раз.
– А что случилось потом? – спросила Лия, – Эфрат сожгла его?
– О, да, вместе с городом, – рассмеялся Овадия.
– Это отвечает на вопрос, почему в девятнадцатом веке было столько пожаров. Семейные неурядицы. Гугл будет безутешен и озадачен, – Рахмиэль сохранял поразительное спокойствие в присутствии бывшего мужа своей возлюбленной.
– Еще бы, столько информации, которую от него все еще скрывают, – вздохнула Эфрат.
Они продолжали шутить, перебрасываться остротами, перемежая их колкими репликами, один пакет с краткими обозначениями на стикере сменялся другим и скоро весь запас был исчерпан.
Шири сидела без движения. Бокал, стоящий перед ней, остался нетронутым.
– Дамы и господа, – тихо сказала Эфрат. И ей не было нужды продолжать. Все присутствующие, включая Рахмиэля, встали и молча вышли из комнаты, оставив их с Шири вдвоем.
– Я слышала однажды легенду, – так же тихо продолжила Эфрат, – о японском поэте. Он написал стихотворение под названием «Утрата», в нем было три слова. Но поэт соскоблил их, потому что утрату нельзя прочитать.
Она замолчала. Как и все в комнате. Даже свечи горели беззвучно. Как если бы единственным звуком в комнате осталась тишина, а единственным, что заполняло мир вокруг, стала пустота. В какой-то момент Эфрат показалось, что и она сама, и Шири, и комната вокруг исчезают, как если бы ничего не существовало вовсе, даже ее самой.
– Мне жаль, – сказала наконец Эфрат, надеясь, что ее голос долетит до Шири даже сквозь пустоту, в которой существование любого звука казалось нереальным.
– Мой мальчик… – наконец заговорила Шири, чтобы тут же замолчать, – это моя вина.
– Я бы хотела сказать, что в этом есть твоя вина, но это не так. По крайней мере, это не совсем так, – отозвалась Эфрат. Она встала и подошла к столу, чтобы сесть рядом с подругой.
– Сила не меняет нас, она только усиливает то, что в нас есть изначально, – продолжила она.
– Иначе говоря, храмы строили из камня, потом что ты извела все дерево? – Шири слегка улыбнулась.
– Можно и так сказать, – Эфрат поддержала ее улыбку, – говорили, что я могу зубами разорвать еще бьющееся сердце, потому что это угодно богам, что могу залить кровью все храмовое золото и на меня снизойдет благодать, потому что так угодно богам, что во мне спят силы стихии, которые могут разрушить все, подобно лесному пожару, который хочет дотянуться до небес.
– И ты все еще пытаешься?
– Дотянуться?
– Да.
– Конечно. И мой свет сияет тем ярче, чем темнее становится небо.
– Как поэтично, – притворно удивилась Шири.
– Это Рахмиэль написал.
– Прошу прощения?
– Да, что-то про небо, звезды, мои глаза и то, что он хочет умереть у меня на руках.
– Что ж, некоторые мечты сбываются, – вздохнула Шири.
– Ты бы не смогла его спасти, – мягко ответила Эфрат. – И даже сами эти слова бессмысленны, потому что люди наделены свободой выбора, и только они решают, какими им быть. Мы можем видеть их потенциал в перспективе вечности, мы можем видеть множественные варианты их судьбы, но только люди решают, какой их вариантов выбрать. И иногда они выбирают тот, с которым не могут справиться.
– Мне до сих пор кажется, что все еще можно изменить, – прошептала Шири, закрыв глаза, – что можно вернуться в какой-то момент в прошлом, где все можно исправить.
– В какой-то момент, где, как тебе кажется, все пошло не так?
– Где можно все исправить…
– И какой это момент?
Шири подумала какое-то время, а затем ответила, будто бы нехотя.
– «Я. Любить. Крек. У вас есть крек?».
Эфрат покачала головой.
– Мы не знаем и никогда не узнаем, могло ли все быть иначе. Мое мнение ты знаешь, я всегда говорю: «Да, могло». Я знаю, что мы способны воплотить все, чего пожелаем, мы никогда не знаем, как именно, потому что это невозможно знать наперед. Важно только одно – желать.
– Знать, дерзать и хранить молчание, – добавила Шири.
– Так точно, дерзать. И не забывать ужинать, – Эфрат пододвинула к ней наполненный бокал.
Шири посмотрела на него и отвернулась.
– О нет, только не приступ вегетарианства! – воскликнула Эфрат, – Не вынуждай меня звать на помощь бывшего мужа и заставлять его держать тебя, пока я буду заливать тебе еду прямо в рот.
– Я превращу твоего бывшего супруга в салат, – усмехнулась Шири.
– Причем не вставая, – кивнула Эфрат, – поешь.
Шири медленно протянула руку к бокалу, поднесла его к губам и сделала глоток. Кровь была остывшей и уже загустевала.
– Так уже намного лучше, – Эфрат смотрела на нее, наклонив голову набок. Ее волосы укрывали золотой вуалью все, что попадалось на их пути. Обернутая тонким черным шелком платья, она почти таяла в темноте комнаты, и только блеск пламени свечей на ее мраморной коже напоминал Шири, что ее подруга все еще здесь, сидит напротив. Огонь переливался на ее скулах, оживая причудливыми узорами, и как будто сама ее кожа обращалась пламенем, готовым взвиться под потолок и уничтожить все вокруг. Шири отвела взгляд, и видение растворилось.
– Он не выжил. Мой пианист. Мой кудрявый мальчик.
– Да, я знаю. Мне чертовски жаль.
Какое-то время они молчали. Свечи снова начали издавать треск, а где-то за окном зазвучала ночь. Эфрат знала это, хотя в комнате окон не было.
– Как вы познакомились с Разом? – спросила она Шири.
– О, занимательнейшая история! – ответила та, – дело было в борделе …
Ночь окутывала поместье, по-своему согревая его. Где-то, в одной из комнат, собрались остальные члены семьи. Сегодня как никогда им было необходимо псевдо-пустословие Раза, который всегда был рад развлечь публику. Однажды, еще до того, как он сжег любимый особняк Эфрат, она спросила его, почему он столько смеется и так любит, чтобы смеялись другие. Он улыбнулся тогда одним уголком губ и ответил, что когда-то он начал смеяться и смешить других, если ему было больно.
Ночь уже близилась к своему завершению, когда Эфрат вернулась в свою комнату. Что-то было не так. Что-то изменилось. Она всмотрелась в темноту: темнота тоже изменилась. Она искрилась, как если бы крошечные искры разлетались из ниоткуда. Но это просто Рахмиэль, сидевший у книжного шкафа, открыл глаза и посмотрел на нее. Какое-то время Эфрат просто стояла на пороге и наслаждалась неожиданным зрелищем. Сама комната была наполнена не только старинной итальянской мебелью, но и той самой подвижной и живой тьмой, которая все еще живет в некоторых уголках этого мира. Ее может почувствовать почти каждый, но каждый чувствует ее по-своему. Эфрат всегда ощущала ее как океан, теплый, глубокий, способный скрыть тебя от любой опасности мира и подарить любые приключения на твой вкус, поднять со дня любые сокровища и приоткрыть двери в чужие тайны. В нем было столько неизведанного, такого, что даже она еще не знала и что, может быть, было известно только Старейшинам.
Казалось, что там, куда летели сияющие оранжевые искры, сами искры становились ярче, а тьма еще больше сгущалась, как если бы они усиливали друг друга. Искры перемещались по комнате, не останавливаясь ни на чем конкретном, как если бы у них не было никакой особой цели, и они не искали ничего конкретного, так движется внимание того, чьи мысли далеко от реальности и настоящего момента.
– Если бы он был тем, за кого она его принимала, он бы смог, он бы выжил, – ответила Эфрат на его не произнесенный вопрос.
– Смог что?
– Придержать тьму… справиться с ней, сделав ее частью своей природы, сохранить себя, она сделала паузу, – если бы она помогла ему перейти, он бы не прожил долго.
– Он был таким изначально или что-то так его изменило?
– Это вечный вопрос, который задают все и на который есть только один однозначный ответ.
– Какой? – искры продолжали свое движение во тьме, как если бы были самостоятельными существами.
– Это же очевидно, – ответила Эфрат, – это был его выбор. Людей не определяет данность или обстоятельства, они могут прожить половину жизни, преображая мир вокруг себя в подобие рая, чтобы потом в один прекрасный день сдать его худшим из чертей вместе со всеми прилегающими землями и государствами. Человек может быть невероятно светлой душой, чтобы однажды превратиться в ублюдка, и он будет искренне верить, что стал лучше и теперь весь мир сделает лучше, и хотя он отлично знает, что врет сам себе, он будет продолжать это делать. Потому что переход – это встреча с самим собой, а этой встречи избегает абсолютное большинство.
– Да, – Рахмиэль кивнул, – это был не самый приятный момент.
– Что же ты такое узнал о себе? – спросила она, выходя на центр комнаты. Сияющие искры неторопливо плыли за ней.
– Я расскажу, если ты расскажешь, – ответил он, похлопав ладонью по месту на полу рядом с собой.
– Не вопрос.
Она села рядом с ним на пол, и, прижавшись поближе, положила голову ему на плечо. Как и следовало ожидать, он обнял ее. Как и всегда, это вызывало у него улыбку. Эфрат снова было тепло и это было странно. Все происходящее казалось ей по меньшей мере странным. У нее толком не было времени осознать случившееся, события происходили как будто были заранее кем-то спланированы, а ей оставалось только успевать озвучивать свои реплики. И вместе с этим она знала, ей это только казалось. Ничто в мире не происходит без нашего соучастия.
– Принципы разрушили больше жизней, чем все происки Дьявола вместе взятые. Разрушили бы и мою, не будь она вечной. К счастью, у меня было достаточно времени, чтобы понять, как важно ценить кого-то, кто рядом. Вне принципов. Вместо того, чтобы делать кого-то частью уравнения, задачей, которую надо решить, сделай его живым, недели его жизнью, – Эфрат снова согревалась его теплом и тоже улыбалась, – потому что когда ты ставишь принципы выше жизни, под твоими ногами разверзается пропасть, и никто не поймает тебя, пока ты будешь лететь на дно. Но если между пленом собственного разума и жизнью, которая происходит с тобой здесь и сейчас, ты выбираешь жизнь вопреки всяким принципам, то небо над твоей головой загорается миллионами новых звезд, за каждой из которых лежат миллионы новых миров.
– Ты всегда это знала?
– Знала – да, – она немного помолчала, – когда я жила в храме, эти истории были записаны на стенах, у нас были карты, рассказывающие как создать из человека связующее звено между небом и землей, как сделать человека тем, кто объединит в себе небо и землю.
– Судя по тому, что происходит вокруг… что-то пошло не так.
Эфрат молчала, отгоняя от себя воспоминания. Погружаясь лицом в шелк его рубашки, задевая губами ее кожу, ощущая почти что невесомость, она старалась не слышать голоса в своей голове, которые никогда не смолкали, догоняя ее сквозь сменяющие друг друга эпохи. Она изо всех сил пыталась оторваться от них, заглушить громкими звуками музыки и голосами тех, кто рядом. Но всегда слышала те голоса, как будто они звучали в самой ее крови, напоминая, откуда она пришла и как стала той, кем стала.
– Иногда люди совершают что-то настолько плохое, что ткань мира надрывается и приходит тьма, которая начинает менять мир, шаг за шагом присваивая его себе. Кто-то достаточно силен, чтобы перейти на ее сторону и преобразиться в драгоценную, сияющую в ночи звезду…
– Ты – небо, полное звезд.
– Да, как-то так, – она продолжала, не замечая, как он рассматривает ее в открывшемся ему новом мире. Эфрат была похожа на мерцающее звездами ночное небо, чья тьма ставилась тем глубже, чем ярче сияли звезды. До перехода он только представлял ее такой, сейчас он ясно ее видел. – И так должно быть. Видишь ли, зло содержит зерно разрушения в себе самом, если люди поддаются злу, впускают его в себя и в свой мир, они начинают терять себя и мир, в котором живут. Ведь зло не существует само по себе, ему нужен кто-то, кто проведет его в мир, оно не дает новую жизнь, а только разрушает.
– Разрушение всегда казалось мне естественной частью жизни. Иначе жизни бы стало слишком много, – Рахмиэль размышлял вслух.
– Это так, жизнь материального мира неизбежно подвержена переменам через разрушение. Раньше это называли бесконечным танцем Шивы, который разрушает и созидает одновременно. И пока существует материя, люди будут переживать цикл рождения и смерти. До тех пор, пока они сами – часть материи.
– А может быть иначе?
– А насколько хорошо ты меня видишь?
Рахмиэлю было сложно ответить на ее вопрос. Он почти не чувствовал вес собственного тела, а Эфрат, лежавшая у него на плече, была скорее знанием о том, что она рядом, ощущением на уровне знания.
– …и я хотел бы умереть у тебя на руках, – отозвался он.
– Знаешь, я уверена, никто, кроме нас двоих, толком не понимает, что это значит.
– Нас двоих достаточно, – он ненадолго замолчал и закрыл глаза, – почему ты решила, что я смогу перейти?
– Это было против моих принципов. Это – во-первых. И я этого хотела. Это – во-вторых. Две довольно весомые причины. Этого достаточно?
– Что за принципы такие?
– Я не должна обрекать другого на смерть при жизни, или на «нежизнь». И пожалуйста, не спрашивай, почему. У меня нет сил рассказывать, и я не хочу тратить на это половину нашей общей вечности. Кроме того, вероятность, что преображение пройдет успешно, всегда очень невысока, и даже если ты принимаешь решение обратить кого-то, это никогда не может быть только твоим решением. А потому мы и пришли на зов Старейшин, чтобы заручиться их мудростью и поддержкой, – она сделала паузу, – это официальная версия.
– Мне показалось, это было ваше с Шири общее решение. Вы просто хотели получить ответы.
– Может быть, мы так думали какое-то время, – пожала плечами Эфрат. – Мысли Старейшин – и наши мысли тоже.
– И все так, я – здесь… почему?
– Ты здесь, потому что я… потому что я… потому что любовь сильнее смерти. И я верю в любовь. И всегда буду. Если я перестану верить в любовь, моя вечность закончится в ту же минуту.
– Это фигура речи или что-то больше?
– В этом мире выживают только те, в ком есть любовь. Поэтому ты – здесь, а не лежишь на полу рядом с тем, что осталось от Гедальи. Поэтому я —здесь. И на определенном этапе эти слова приобретают буквальное значение. Мое тело поддерживает кровь, но мою душу здесь держит любовь. Благодаря любви души путешествуют из одного мира в другой и остаются в каком-то из них, если захотят. Это как огромная река, а ты – как маленькая лодка. Без реки ты не сможешь плыть.
– Но разве это не ограничивает тебя только теми мирами, между которыми течет река?
– Ты не понял. Она есть повсюду. И все соткано из нее.
– Даже мы?
– Мы – в первую очередь. Буквально – первым делом…
– Да. Но сначала – охота.
– А что же принципы?
– Принципы нужны, чтобы поддерживать жизнь. Но создавать ее может только любовь.
– А мы сейчас живы?
– А как ощущается?
– Как никогда.
– Тогда это точно «да».
– Тогда почему «нежизнь»?
Эфрат на мгновение задумалась.
– А почему переход называется переходом?
– Потому что… мы обретаем другую жизнь?
– Мы все еще здесь, но мы уже там.
– Так значит, получилось?
Эфрат кивнула.
– Ты – небо, полное звезд, – он улыбался, продолжая рассматривать ее.
– И ты полчил новую жизнь из моих рук. – Она взяла его за руку, не особенно отдавая себе в этом отчет.
– Считаешь, строчки нужно изменить?
– Я уверена, что для сохранения этого знания нас двоих вполне достаточно.
И они вышли из комнаты, чтобы отправиться на охоту. Вместе. Потому что куда бы они теперь ни направились, их двоих и правда было вполне достаточно.
На улице уже наступила темнота. Летняя ночь, как всегда, была теплой, а воздух – наполнен ароматом цветов апельсина. А для них она полнилась ароматами новых лакомств и манящими звуками самых разных голосов. Среди которых особенно выделялся один. Одинокий голос, шепотом эха разбегавшийся под высокими сводами. Эфрат и Рахмиэль переглянулись и, все еще держась за руки, пошли на зов. Оба точно знали, куда идти. Как будто бы они уже были там, куда только направлялись, как будто видели всю дорогу заранее и знали, куда должны прийти.
На улицах было шумно, но это был шум счастья, которым обменивались между собой любящие друг друга люди, а если не любящие, то по меньшей мере готовые разделить тепло этого вечера, подогрев его местным вином, которое можно было купить по дороге к центру города, если постучать в одно из маленьких окошечек на фасадах домов.
Тот голос, на зов которого они шли, был другим —одиноким, тихим по меркам людей, и оглушающим для тех, кто был способен слышать. Эфрат спрашивала себя, был ли этот голос таким же громким для богов и было ли случайностью то, что они его услышали, выйдя на улицу в этот день и в этот час. Рахмиэль не задавал себе вопросов. Он был счастлив. Из всех тех чувств, что он сейчас испытывал, это было самым ярким.
Шумные улицы оставались позади, а ночь становилась громче. Какое-то время они продолжали идти и остановились, когда подошли к очередному католическому храму, коих в городе было в изобилии. Редкие из них, тем не менее, были открыты в ночное время. Они больше не слышали голос, а это означало, что они пришли. Какое-то время Эфрат стояла в нерешительности, прислушиваясь к пространству вокруг. Но все было тихо. Никаких признаков человеческого присутствия. Кроме одного, очень слабого. И этот человек был внутри храма.