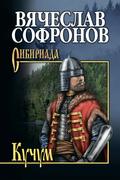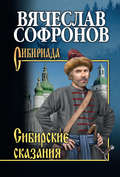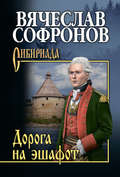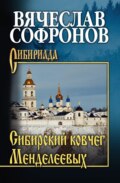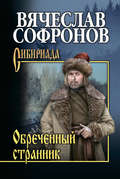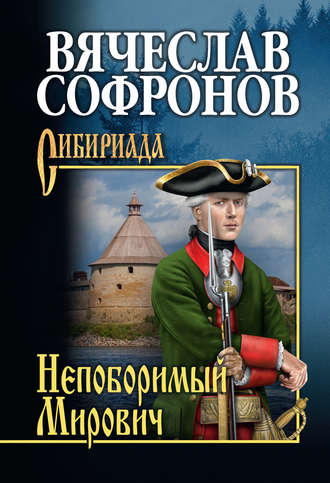
Вячеслав Софронов
Непоборимый Мирович
– За тебя боюсь, что обчищу и без штанов по миру пущу. Ты сперва с другими попробуй, и не на деньги, а так, на щелчки или кукареку.
– Это как? – в очередной раз не понял Мирович.
– Обыкновенно! Сколько очков проиграешь, столько раз тебя и нащелкают по носу картами. Или под стол отправят, будешь оттуда кукареку кричать, пока не отпустят. Оно не всем, конечно, нравится, но зато деньги не проиграешь.
Они уже подходили ко входу в корпус, когда Аполлон, словно чего вспомнил, остановился и серьезно попросил:
– Только о том, что говорил тебе, молчок. Уговор?
– Само собой, – ответил Мирович. – Да и как иначе…
– Всяко бывает, – хитро сощурился Ушаков. – А то потом скажешь, что не предупредил тебя. Мало ли что… Ладно, где тебя найти можно? Мы же в разных корпусах живем. Дворец такой огромный, я до сих пор всех закоулков тут не знаю.
Мирович объяснил, где и как его лучше разыскать, и на этом они расстались. Возвращаясь к себе, Василий размышлял на ходу, стоит ли продолжать дружбу с Аполлоном, потому что вдруг понял, какие здесь разные люди, совсем не похожие на тех, с кем он имел дело раньше. Конечно, Аполлон был человеком прямым и открытым, чем и подкупал. Но трудно было не заметить, что в нем, как часто говорила его бабка, «черти гнездо свили и уходить не собираются».
Даже здесь давало себя знать монастырское воспитание, когда им изо дня в день твердили о непрестанной борьбе сил зла с добром и внушили это крепко, едва ли не на всю жизнь. А сейчас он чувствовал, что переступил ту черту, где зло живет отдельно, а добро – в противоположной стороне. В жизни трудно различить, чего в человеке больше: зла или добра. А посоветоваться не с кем, все нужно решать самому и не откладывать на какой-то срок, а именно сейчас сказать себе: я выбираю другое, совсем не то, что мне предлагают.
Василий хорошо понимал: в данном случае никакая крайность его не спасет. Или он останется без друга и будет жить сам по себе, как прежде, или он должен впустить в себя чуточку, совсем немного из того чужого мира, чтобы не выглядеть белой вороной. Так и не придя ни к какому выводу, он прошел к себе и бросился на кровать, решив еще раз все обдумать. А думать теперь приходилось гораздо чаще, чем раньше, поскольку делать это за него уже никто не станет.
4
Через несколько дней Ушаков и впрямь нашел Василия в комнате, где жили еще пять человек, и вызвал его в коридор. Там их поджидал еще один парень в такой же, как у них, форме Шляхетского корпуса. Но он был немного старше Аполлона, а тем более Василия.
– Прошу любить и жаловать – Петр Ольховский. Мы с ним сошлись еще раньше, чем с тобой познакомился, – представил того Ушаков.
Мирович в ответ кивнул головой, ожидая дальнейших предложений.
– Ты, помнится, говорил, что хочешь картежной игре научиться? Правильно говорю? – спросил Ушаков.
– Говорил, – согласился Василий, а в душе своей почувствовал колкий холодок от предстоящего участия в игре.
– Тогда пошли, – решительно предложил Ушаков. – Втроем оно ловчее учиться будет. Да, ты ничем не занят? – спохватился он.
– К занятиям успею подготовиться, – ответил Василий. – Устав воинский наизусть выучить надо. Я уже половину осилил…
– Без устава никак нельзя, – с усмешкой вступил в разговор Ольховский, – а то не будешь знать, в какую сторону бежать, когда неприятель нападет.
В его словах словно крылся какой-то подвох, что Василию не понравилось, но он решил подождать и постепенно разобраться, что кроется за его словами. Ссориться с новыми друзьями в его планы никак не входило, тем более, что других у него и не было.
Они прошли по плохо освещенному коридору, в самом конце которого Аполлон легко открыл дверь неизвестной ранее Василию каморки, находящейся под лестницей, ведущей в верхние покои. Там лежали старые мешки с чем-то, в углу стояли пустые ведра и лопаты, а у небольшого сводчатого окошка, заделанного решеткой, стояли лавка и стол.
– Располагайся, – предложил Ушаков. – Сюда из начальства никто не заглядывает, но на всякий случай дверь подопру изнутри палкой. И не шуметь, говорить только шепотом. Если застанет кто, то греха не оберешься…
– А зачем нам шуметь, мы все тихонько мальцу объяснять будем, если он понятливым окажется, – примостившись сбоку от стола, сказал Ольховский.
– Я тебе не малец. – Мирович понял, что пора и за себя постоять, а потому решил дать сразу понять, что обращаться так с собой не позволит.
– Ой, да я совсем не хотел кого обидеть, прошу простить покорнейше, – притворно улыбнулся тот. – У нас принято всех младших учеников мальцами, а то еще и малявками звать…
– Кончай, Петруха, – остановил его Ушаков. – Играть еще не начали, а уже собачимся, – с этими словами он извлек откуда-то из-под одежды стопку аккуратно нарезанных листов плотной бумаги с картинками на тыльной стороне.
Мировичу прежде никогда не приходилось видеть игральные карты, поскольку в его родне никто игре в них был не обучен. Впрочем, однажды он заглянул в тобольский кабак на рынке и увидел, что подвыпившие мужики кидают на уставленный пустыми кружками и объедками стол замызганные бумажные листочки. Тогда он сообразил, что это и есть те самые карты, но особого интереса они у него не вызвали. А вот сейчас перед ним были карты подлинные, которые могут неожиданно принести ему если не счастье, но деньги. И в груди приятно защемило от неизведанного еще чувства.
Он осмотрелся вокруг, чтобы запомнить этот момент, но запоминать особо было нечего: облупленные стены, паутина в углу, грязные пыльные мешки. Самая обыденная обстановка, но было в этом что-то таинственное, что невозможно передать словами; крылась в их сходке некая потусторонняя сила, придававшая им вид заговорщиков. И сообщники его, перешедшие на шепот, выглядели теперь иначе, словно они собрались здесь, вдали от чужих глаз, для чего-то большого и значительного.
«А если предложить им сейчас создать тайное братство? Что они ответят? – подумал Мирович. – Наверняка спросят, зачем… Что им скажу? Нет, надо придумать и совершить совместно какое-нибудь большое дело. К примеру, бежать на родину предков в Малороссию, а там собрать сторонников и…»
Дальше этого его планы не шли. Но он знал, придет срок – и он обязательно совершит что-то необыкновенное.
– Василий, ты слушаешь или нет? – донесся до него откуда-то издалека голос Аполлона.
– Конечно, слушаю, – тут же отозвался он.
– Юноша размечтался, как выиграет в карты целое состояние, – с неизменным ехидством вставил свое словечко Ольховский. Но Мирович не счел нужным отвечать и сделал вид, будто не слышал последней фразы.
– Карты лежат в колоде, в ней всего тридцать шесть штук с различными званиями: король, дама, валет… – начал пояснять все таким же свистящим шепотом Аполлон. – Еще есть четыре вида или, как говорят, масти карт…
Василий внимательно слушал и запоминал названия. Потом их раздали на троих и показали, как нужно ходить, чем отвечать и кто в результате выигрывает. Условия оказались необычайно простыми, и Мирович, обладая цепкой памятью, мигом их запомнил и уже при второй раздаче начал уверенно отвечать. Один раз он даже набрал столько же очков, как и Ольховский, но обыграть Ушакова у него никак не получалось.
Вдруг они услышали шаги за дверью, и кто-то осторожно подергал за ручку, пытаясь открыть дверь. Послышалось недоуменное бормотание, а потом шаги стали удаляться от двери. Аполлон моментально собрал карты, спрятал их у себя под кафтаном и приложил к губам указательный палец. Молодые люди замерли, а когда шаги стихли, Ольховский отставил палку, подпиравшую дверь, приоткрыл ее, осторожно высунул наружу голову, а потом помахал им рукой и первым вышел. Когда они шли гуськом по сумрачному коридору, то навстречу им из-за недавно растопленной сторожем печи кто-то шагнул, и Петр едва не налетел на него.
– Кто такие? – послышался сиплый голос Семеныча. – Чего тут шастаешь? – Он крепко вцепился в плечо Ольховского и развернул его лицом к свету.
В это время Ушаков нашел руку Мировича и потащил за собой. Они быстро проскользнули мимо стоявшего к ним спиной вахмистра и, на цыпочках пройдя несколько шагов, приударили бегом. Повернув направо по коридору, перешли, тяжело дыша, на шаг, а потом, даже не попрощавшись, отправились каждый в свои покои. В комнате, где поселили Василия, все спали, и он в темноте тихо нашел свою кровать, разделся и забрался под одеяло. Но сразу уснуть не мог. Ему виделись яркие рисунки карт, со свистом опускающиеся на стол, где короля неожиданно бил валет или совсем никчемная шестерка, а четыре собранные вместе валета могли даже обеспечить выигрыш в игре. Валет ему особенно чем-то нравился. Может, он видел в этой далеко не главной, но порой важной фигуре себя самого? А если таких соберется трое или четверо, то сообща они могут много чего совершить.
Возбуждение Василия было столь велико, что хотелось куда-то бежать, громко закричать: «Я могу! Я знаю, как это сделать! Вы еще обо мне услышите!» Но, если бы кто его спросил, что он хочет сделать, он вряд ли ответил бы что-то вразумительное. Просто внутри у него, еще начиная с Тобольска, вызревал протест против всего, что произошло с его семьей и с ним самим. Хотелось что-то изменить, мир перевернуть, добиться иной жизни, а не этой скучной учебы вначале в семинарии, а теперь в Шляхетском корпусе. Он-то знал, что создан для большего, а не для заучивания латыни или воинских уставов. Он мог бы командовать полком и даже армией, но кто допустит его туда? Для этого нужно родиться генеральским сыном, а не от ссыльного отца.
Ему захотелось отправиться на войну и там показать, на что он способен. Но и здесь он не представлял, как может прославиться. Броситься под пушечный заряд? Смешно, да и кому он нужен мертвый… Убить нескольких человек в сражении? Он представил себе, как врубается верхом на коне в гущу вражеского строя и там крушит неприятеля направо и налево, захватывает в плен вражеское полковое знамя и с ним в одной руке возвращается в свое расположение и бросает его под ноги главнокомандующему. Тот, удивленный и растроганный, снимает с груди самый главный боевой орден и вешает на грудь ему, Василию. Потом его отправляют с донесением в столицу, вводят во дворец, представляют императрице, и она милостиво протягивает ему руку для поцелуя и спрашивает: «Как тебя звать, храбрый воин? Чей будешь сын?» И вот тогда он ей признается, что его отца и деда незаслуженно обидели, отправили в Сибирь и чего ему стоило пробиться наверх, отличиться в бою… А императрица наверняка ответит: «За твой подвиг прощаю всех твоих родственников и возвращаю вам поместья и земли… И пусть Мировичи…»
5
– Мирович, Мирович… – услышал он чей-то голос.
«Кто это? Неужели зовут меня? Куда?» Он открыл глаза и увидел, что уже утро, а рядом стоит сосед и пытается его разбудить.
– Ну, и силен же ты спать! – смеялся тот. – Пора на общее построение выходить. Опоздаешь – оставят без завтрака, – и он, уже одетый, быстро вышел.
Василию совсем не хотелось вставать. Он думал, что если досмотрит свой сон, то обязательно узнает, что ему нужно сделать, чтобы прославиться… Но опаздывать на ежедневное построение было никак нельзя. Потом будут занятия по латыни, фортификации и математике, но часть из того, что им преподавали, он знал уже с семинарии, тем более что в тобольской бурсе от них требовали даже меж собой общаться на латыни. Фортификация же его не интересовала совершенно, зато в конце недели всех обещали вывести на стрельбы, где они впервые сделают несколько холостых, а потом и настоящих, боевых выстрелов. Этого он ждал, надеясь быстро освоить стрельбу из мушкета, который пока что даже в руках не держал. Были еще занятия по фехтованию, но там все сводилось к запоминанию основных позиций, выпадов, обманных движений. К тому же на всех не хватало учебных эспадронов, а потому половине кадетов давали в руки обыкновенные, гладко вытесанные из березы палки и заставляли выполнять упражнения с ними.
Самым же неприятным не только для него, но и для всех было маршировать на плацу. Причем приходилось заниматься «шагистикой», как кадеты окрестили эти занятия, практически в любую погоду. А если у кого-то не получалось, оставляли всех и гоняли до изнеможения, пока наверху не открывалось окно начальника корпуса и тот не подавал сигнал неугомонным фельдфебелям, что пора заканчивать строевые занятия. Зачем им, будущим офицерам, нужна муштра? Пусть этим занимаются рядовые, им же, кадетам, совсем не обязательно знать все тонкости поворотов через правое плечо и тем более, ходить в ногу. Лучше бы побольше учили верховой езде в манеже, куда они ходили всего раз в неделю. Почти все сверстники Василия, выросшие в усадьбах, а не в ссылке, как он, умели седлать коней и хорошо держались в седле. Ему же в детстве приходилось ездить верхом, но без седла. В семинарии его частенько отправляли на реку за водой, и он умудрялся без пригляда старых монахов забираться верхом на тощую лошаденку, но это даже нельзя назвать настоящей верховой ездой. Поэтому во время конных занятий остальные кадеты подсмеивались над ним, называя его пешим казаком, но он терпел насмешки и не показывал вида, знал: научится и этому и будет скакать не хуже других, как делали его деды и прадеды.
А больше всего в такие минуты ему хотелось перенестись в те места, где жили когда-то его предки и были действительно славными казаками, могли много верст проскакать верхом, не слезая с коня, ходили в походы, рубились с врагами, и все им было нипочем. Бабушка много раз рассказывала ему, в каких сражениях участвовал его дед, переяславский полковник Иван Мирович. Как он привозил домой добытую в бою добычу, приводил пленных, а потом они несколько дней праздновали очередную победу, приглашали к себе в дом друзей и соседей. И каждый раз, глядя на тех, с кем он жил под одной крышей, Василий думал: «Вот, из-за ваших отцов я остался без родного дома и столько лет скитаюсь на чужой стороне, а моя бабка не имеет на старости лет даже собственного угла, где могла бы достойно дожить до смерти. Это все ваша вина, с которой, видимо, и умирать придется…»
Но то были редкие вспышки злости и недовольства, которые тут же гасли. Он хорошо понимал, что нет в том вины этих молодых людей и даже отцы их тоже не виноваты. Виноваты другие, но имен их произносить даже про себя он не хотел, понимая, насколько опасно и тяжело жить с такими мыслями, и всячески гнал их от себя, пытаясь винить судьбу, выпавшую на его горькую долю. А судьбу можно обмануть, если повезет, как в картах.
Чаще всего мысли Василия были заняты мечтами или думами о себе и о своем будущем. Поэтому мало кто из кадетов его набора предлагал ему свою дружбу. Видимо, он резко отличался от сверстников своим вечно сосредоточенным видом, словно пребывал в ином, неведомом другим мире, за что на занятиях его часто поднимали с места и просили ответить, что учитель только что рассказывал. В то же время многие учителя отличали Василия от остальных его собранностью и послушанием. Но если бы кто из них знал, какие страсти и планы одолевают этого скромного и вечно насупленного воспитанника, то были бы несказанно удивлены, а то бы и доложили о том по начальству. Ибо, как известно, именно из таких тихих и незаметных молодцов выходили чаще всего бунтовщики и мятежники.
Однако офицеры, занятые обучением молодых кадетов, больше судили о своих воспитанниках по их поведению, ответам на занятиях. А вот заглянуть к ним в душу не мог даже исповедовавший их батюшка. В храме к нему на исповедь обычно выстраивалась длиннющая очередь, поэтому приходилось приглашать в особо большие праздники кого-то из соседнего прихода. Те терпеливо выслушивали обо всех провинностях, что сообщали им юноши, быстрехонько покрывали их видавшей виды епитрахилью, читали отпускную молитву, и обычно всем исповедующимся разрешали подойти к Святому причастию. Никому и в голову не пришло спросить того же Василия Мировича или кого другого, о чем они думают. Да и что они могли услышать в ответ? Почти все думали о доме, о родителях, о сытной кормежке, о том, как бы побыстрее закончить курс и уехать или к месту назначения, или хоть недолго побывать в родительском доме, где им всегда рады и ждут.
Только вот Василия никто не ждал, и дома у него не было, а во время исповеди, еще в семинарии, он научился открываться ровно настолько, как того требовали церковные каноны: рассказывать о совершенных прегрешениях. И он без утайки сообщал насупленному батюшке, мол, не всегда внимательно читает молитву, не выполняет заданий, грубо ответил товарищу… И не более того.
Об одолевающих его страстях он вряд ли сообщил бы даже под пыткой. При этом считал, что благодаря мечтаниям его жизнь приобретает иной, более глубокий смысл и оттенок. Тем более, всегда можно выдумать новые ситуации, в которых он мог бы участвовать. Потому и не мог он открыться батюшке или кому другому, сколь страстно ненавидит того, по чьему распоряжению были высланы его отец и остальные Мировичи. И его бы воля, он бы расправился со своими недругами, как повар, поймавший на обед курицу. Порой он даже ощущал, как сжимает в руке кинжал, приготовленный для расправы.
Но за такие откровения он мог бы уже завтра оказаться сначала на дыбе, а потом и на плахе. Та же бабка рассказывала ему и об этом и советовала не откровенничать ни в разговорах с друзьями, ни на исповеди. «Богу виднее, кому отпускать грехи, а кому нет. Вот перед ним и покайся, он и простит…» – говорила обычно она. И еще она рассказывала, кого из ее знакомых забирали на каторгу после откровений на исповеди. «Царь Петр повелел, чтоб все, кто против него чего замысленное хоть где услышат, немедленно доносить, кому следует. А уж кому лучше всех мысли наши известны, как не батюшкам, так что тот указ и о них касателен…» С тем и рос Василий: сообщать лишь то, что не будет караться людским судом, а все остальное хранить в себе и доверяться лишь Богу. И никому другому.
6
Весной, когда кадетов собирались вывезти в летние лагеря, начальник корпуса собрал у себя всех офицеров, что вели занятия в младших классах. Там он попросил их назвать имена тех, кто мог быть удостоен чести исполнять обязанности сержантов в своей роте без присвоения им армейского чина. По этому случаю им выдавали специальный шарф и шейный знак на цепочке, именуемый горжетом. Кроме прочих, была названа и фамилия Василия Мировича. Генерал Игнатьев чуть задумался, вспомнил, с каким вопросом приходил к нему кадет Мирович, но потом решил: одно другому не помешает и одобрил решение офицеров.
На другой день на общем построении Василий, как всегда пребывавший в задумчивом состоянии, вдруг услышал свою фамилию, сделал два шага из строя, и ему вручили шарф и горжет сержанта корпуса. Вот тогда, едва ли не впервые в жизни, он испытал настоящую радость и решил, что Господь услышал и одобрил его мечтания, что он все делает правильно и находится на верном пути.
Добавило радости и то, что после построения к нему подошли несколько человек теперь уже из «его» подразделения и поздравили с полученным званием. Правда, он заметил, что некоторые делали это неохотно, явно думая, что их незаслуженно обошли, но это было даже приятно осознавать. Он был отмечен самим генералом, а потому теперь его обязаны слушать и подчиняться.
«И это только начало, – думал он, выслушивая поздравления и с долей превосходства поглядывая на стоявших подле него кадетов. – Дальше я должен стать первым в корпусе и получить самое лучшее назначение в войска. Я это заслужил страданиями не только своими, но и всех моих предков…»
Теперь он знал, чего добиваться и как нужно себя вести. У него была цель, и он знал, что достигнет ее. Рано или поздно, но доползет, доберется до нее, и тогда… Что будет тогда, он еще не мог представить, но это пока было и не нужно. Дальше все ему откроется, и Господь поведет его, помогая во всем, что бы он ни задумал и ни предпринял. Ведь Бог любит униженных и страдающих… При этом он добавлял: «За правду», но что есть правда в этом мире, опять же ответить не мог, а поэтому ничуть не мучился над разгадкой, считая, она сама решится, когда это будет необходимо.
После того памятного случая, когда кадетов чуть не застал за игрой в карты вахмистр Семеныч, прошел изрядный срок. Василий больше не проявлял инициативы найти Ушакова или Ольховского, а они, то ли напуганные этим случаем, то ли по другой причине, тоже не стремились встретиться с ним. Лишь однажды, на стрельбах за городом, куда вывели весь Шляхетский корпус, он увидел их в рядах одной из рот, уже отстрелявшихся и возвращавшихся обратно. То, что встреча с вахмистром прошла без последствий, он понял. Ольховский сумел каким-то образом вывернуться и не выдал остальных. Но короткое знакомство с картежной игрой оставило у Василия самые яркие воспоминания, и он несколько раз ловил себя на мысли, как бы вновь сразиться с кем-то, а то и… попробовать играть на деньги. Хотя он хорошо понимал, чем грозит ему даже самый малый проигрыш в случае, если он у кого-то даже попросит денег взаймы. Проиграй он их – и все, конец. Отдавать будет нечем.
Он вспомнил, как в Тобольске время от времени зарабатывал тем, что писал прошения неграмотным крестьянам, приезжавшим специально в город из деревень, чтобы подать какую-то нужную им бумагу в губернскую канцелярию. Большинство из них обращались к дьякону, служившему в храме возле канцелярии, а тот, за обычной своей занятостью, отправлял их к кому-то из знакомых семинаристов, среди которых был и он, Василий Мирович. Здесь же, в Петербурге, у него такого знакомства не было. А как самому найти просителей – а они непременно были, их не могло не быть в столице, куда стекались просители и ходатаи со всей России, – он не представлял. Даже в молитвах он стал обращаться к Богу, чтоб тот помог ему познакомиться с кем-то из них, и стал захватывать с собой на прогулки бутылочку с чернилами и заточенное гусиное перо, пряча их от посторонних глаз в шапку.
И вот однажды ему повезло. Во время прогулки в свободное время неподалеку от здания сената к нему обратилась не старая еще женщина, сопровождаемая пареньком, немного моложе самого Мировича:
– Сударь, не подскажете, куда следует обратиться, чтоб написать прошение на имя государыни? Мы прибыли из Тверской губернии, а здесь, в столице, у меня никого из знакомых нет и помочь некому.
Ее речь и манера держаться выдавали в ней женщину воспитанную, а чистая, опрятная одежда, хоть и отслужившая хозяйке не один сезон, говорили о том, что когда-то эта дама могла позволить себе одеваться богато и изысканно, но, судя по всему, времена те давно прошли.
– А гербовая бумага у вас имеется? – тут же спросил ее Василий, возликовав в душе, что Господь наконец-то внял его молитвам.
– Да откуда же у меня ей быть? – ответила удивленно женщина. – Да я и не знала, на какой бумаге его писать надо. Раньше этим мой покойный муж занимался. Сделайте милость, объясните бедной вдове, как поступить, готова хоть немного, но отблагодарить за помощь вашу. Состояния у меня никакого нет, все задолго до смерти своей муж мой спустил, а теперь вот сосед-злодей покушается на имение наше, якобы за какие-то там долги, мужем оставленные…
Мирович повел ее в лавку, где продавалась специальная бумага для написания подобных прошений, которую он заприметил еще давно и на всякий случай держал в памяти, надеясь, что знание это ему пригодится. Там вдова приобрела требуемый для прошения лист, посетовав на дороговизну, и Василий повел их в ближайший трактир, также запримеченный им для подобных случаев. Там они выбрали стоящий у окна свободный стол и сели за него втроем. Мальчик, судя по всему, ее сын, что-то прошептал на ухо женщине, и та кликнула слугу, чтобы принес им что-нибудь перекусить. Пока они ждали еду, она принялась объяснять Василию, в чем заключается суть ее дела.
– Муж мой оказался человек непутевый, хоть и дворянин, и оставил нас с сыном, – тут она кивнула в сторону мальчика, который за все это время не произнес ни слова, – без гроша в кармане. Куда он дел мое приданое, ума не приложу, но этого теперь не вернуть, а уж сколько я слез пролила, как одни остались и о его долгах узнала, о том и заикаться не стану. Но главная беда недавно пришла… – Она чуть помолчала, чтобы собраться с силами, и наконец продолжила:
– Пожар у нас в усадьбе вышел, и хотя удалось потушить вовремя, но выгорел от оброненной свечи кабинет моего супруга, где все бумаги наши хранились. А среди них была купчая на приобретение того имения, где мы и проживаем. Как о том узнал бывший ее владелец, человек известный и со связями, не знаю. Но он обратился в суд о восстановлении своих прав на имение. На суде от меня потребовали предъявить купчую, а от нее один пепел остался. Спросили, были ли свидетели при совершении сделки, а мне о том что известно? Я в то время на сносях была, сына ждала, – она вновь кивнула в сторону мальчика, который торопливо хлебал принесенный слугой суп, – мне о том ничего неизвестно. Дали месяц для подтверждения прав. Ну, я думала-думала, и поехала в столицу, может, хоть здесь управу найду на обидчика своего.
Мирович терпеливо выслушал ее, соображая, как правильно составить прошение, чтобы на одном листе изложить суть дела и при этом не ошибиться и не потребовать новый чистый лист, который стесненная в средствах вдова вряд ли согласится приобрести за свой счет. Ему тут же вспомнилось собственное прошение, что еще по осени он отправил на имя государыни и до сих пор не получил никакого ответа. Вряд ли и эта женщина добьется чего-то, не имея на руках нужных документов. Он вдруг спросил ее: умеет ли она сама писать, а если да, то почему собственноручно не написала прошение? Та в ответ обиженно поджала губы и подтвердила, что грамотой владеет, но не знает, о чем именно следует писать. Тем более в таком состоянии вряд ли сможет изложить ясно суть дела.
Мирович выслушал объяснения, поинтересовался, какую фамилию она носит, где находится имение и кто бывший хозяин, что претендует нынче забрать его обратно. Потом он пересел за соседний стол, чтобы ему никто не мешал, извлек из шапки свои письменные принадлежности и сосредоточенно принялся писать. Он в нескольких предложениях не только описал суть дела, но отдельно остановился на бедственном положении вдовы. А от себя добавил, не вдаваясь в подробности, что родители несчастной женщины были достойные люди и весь род ее служил верой и правдой батюшке императрицы, надеясь, что проверять эти сведения вряд ли кто станет. Еще чуть подумав, приписал об обидах, чинимых ей со стороны бывшего владельца усадьбы, и о том, что после смерти мужа она осталась на руках с малолетним сыном.
После этого, дождавшись, когда чернила высохнут, вернулся обратно к терпеливо поджидавшей его просительнице и положил свое творение перед женщиной. Она близоруко сощурилась и, чуть шевеля губами, принялась читать его. Уже дойдя до конца листа, она вдруг наморщила носик, и из глаз у нее побежали слезы. Василий поспешно схватил лист, боясь, что он может быть испорчен бурным проявлением чувств плачущей женщины. Она же быстро успокоилась, промокнула глаза батистовым платочком и тихо произнесла:
– Благодарствую, сударь. Даже не ожидала, что можно все изложить столь гладко. Будто бы все обо мне знаете. Но ведь это не так, правда? Ума не приложу, каким образом вы догадались. Но, видимо, душа у вас добрая, а может, и сами настрадались не меньше моего. Думаю, Бог отблагодарит вас за добрые дела ваши.
Потом она извлекла из дамской сумочки потертый замшевый кошелек, раскрыла его и долго там рылась, производя в уме какие-то подсчеты, и наконец, помявшись, извлекла на свет две серебряных монеты достоинством по пятьдесят копеек. Мирович глазам своим не поверил, потому что за подобную услугу в Тобольске ему платили не больше пятака, а тут – целый рубль. Но радость его продолжалась недолго, поскольку вдова вдруг решительно убрала один полтинник обратно и поднялась из-за стола. Но и этого было вполне достаточно. Василий зажал потертый серебряный полтинник в кулаке и так разволновался, что чуть не оставил за соседним столом свои письменные принадлежности, если бы слуга не остановил его и молча не показал глазами на них.
Когда он уже в одиночестве вышел на улицу, ярко сияло солнце и мимо, как обычно, спешили куда-то люди, скакали всадники, кричали зазывалы из находящихся неподалеку торговых рядов. Казалось, он попал совсем в иной мир, не подозревая раньше о его существовании. У него впервые появилась такие деньги, и он мог их тратить на что угодно. «Но это только начало, – подумал он. – Я теперь каждый день буду выходить к сенату и там поджидать таких вот просителей. А когда заработаю кучу денег, то…» – что будет тогда и как он потратит свои деньги, Василий пока представить не мог, но твердо знал, с этого дня у него обязательно начнется новая жизнь.
7
С тех пор прошло чуть больше месяца, и зима потихоньку оставляла столицу. Наступление весны в Петербурге можно было ощутить по сырому ветру, задувавшему со стороны близкого моря, и по образовавшейся наледи на дорогах, небольшим пока сосулькам на водостоках и появлению несметного числа воробьев на улицах. Идущие навстречу Василию прохожие прижимали к себе полы плащей, женщины натягивали до самых глаз платки, а стоявшие возле государственных служб на часах гренадеры нет-нет да и ловили одной рукой сорванную с головы треуголку, пытаясь сохранить при этом строгое выражение лица.
На перекрестках в обилии появились лотошники со снедью. Они как-то особенно держали свои лотки на кожаной петле, закинутой на шею, умудряясь размахивать свободными от ноши руками, едва не хватая за одежду спешащих мимо по своим делам прохожих.
Поначалу Василий останавливался чуть ли не возле каждого из них, прикидывая, на что можно истратить остаток из полученных за написание прошения денег. После написания неутешной вдове памятного ему прошения ему повезло всего лишь раз, когда в том же трактире, куда он стал заходить, как только удавалось вырваться в город, познакомился с подвыпившим мужичком из-под Твери. Тот очень желал узнать, где состоит на службе забритый в рекруты его младший сын, и специально для того приехал в столицу. Здесь он обошел все стоявшие в городе полки, спрашивая, не знает ли кто его Тимоху. Сердобольные караульные за кусок сала, несмотря на начавшийся пост, выводили из казармы всех отозвавшихся на их крик Тимофеев, но сына именно тверского мужичка не нашлось.