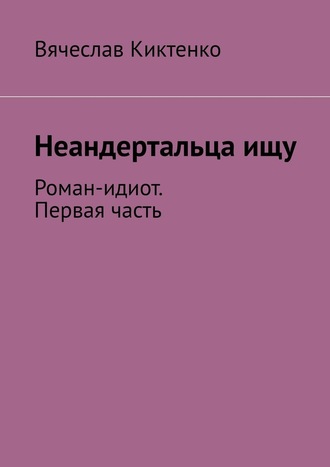
Вячеслав Киктенко
Неандертальца ищу. Роман-идиот. Первая часть
© Вячеслав Киктенко, 2020
ISBN 978-5-0051-4264-1 (т. 1)
ISBN 978-5-0051-4265-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Первая часть романа «Неандерталец»:
«НЕАНДЕРТАЛЬЦА ИЩУ…»
***
Слоны и мамонты.
***
Неандертальцы говорили медленно…
***
Неандертальца ищу…
***
В последнее время стал замечать: хожу по улицам, еду в метро – высматриваю неандертальца…
О, я хорошо научился отличать его от кроманьонца. Черты его, почти неуловимо отличные от большинства современных двуногих, дикое и притягательное благородство этих черт – глубоко скрытое благородство, могущество духа его, вот что меня влечёт в моих поисках!..
***
Неандертальцы любили холод. Теперь любят тепло. Кроманьонцы. Но оно живёт на других континентах. В России не живёт.
Холодно в России… останки ледника, однако…
Мамонты здесь обитают, а не бритые слоны-скинхеды. Подумать только, в России вечная мерзлота – на две трети всего огромного пространства! И кто же здесь живёт? А – Русские…
А кто они такие? Ну, пожалуй, об этом книга. В сущности, она, конечно, о неандертальцах. О великанах, о детях… о русских.
***
Изменённое сознание (остранённое) – признак Неандертальца. Родовой, а не психо-физиологический признак. «Тронутый» (чем-то свыше), но не свихнувшийся…
***
Неандертальцы не погибли. Просто ушли… вошли в иное измерение.
Но они – здесь. Знаю…
***
Нет, совсем плохого о кроманьонцах не скажу. Да особо плохого и нет, но – жиже они, жиже… умнее, подлее, и – гораздо, гораздо гармоничнее, гибче по отношению к постоянно деформирующемуся миру…
Ах ты, Господи… кроманьонец… кто ты?
Как о тебе сказать понежнее?
Может быть, так – Провонявший корвалолом?..
***
Нет, кроманьонцы не истребляли неандертальцев, как более ловкие и слабые твари обычно истребляют сильных и неуклюжих. Враньё. Теперь, когда найдены древнейшие стоянки и пещеры неандертальцев (почти по соседству со стоянками кроманьонцев той же поры), их наскальные рисунки охрой и даже остатки их диковинной письменности, стало ясно, что вовсе они не враждовали между собою. Просто жили наособицу.
***
Разные уклады, разнящяяся внешность, структура психики, нравственных основ – всё было разным. И не надо вместе! Лучше – каждый отдельно. Они это хорошо понимали и не враждовали, просто жили на раздельных территориях. Но генотип-то у тех и других одинаков, набор хромосом также…
***
Скажу малокомфортное: неандертальцы наши прародичи. Учёные этого так уж впрямую ещё не утверждают. А мне и не надо, всё равно «утвердят», знаю. Хорошо хоть, обнародовали научный факт, который уже просто неприлично было скрывать. – Анализ ДНК неандертальцев показал: из ста процентов генома современного евразийца (кроманьонца по сути) что-то в пределах четырёх-шести процентов идентичны неандертальцу.
Что интересно, геном негроида совершенно иной – там нет этих процентов. Вот он где, водораздел Евразии и Африки: неандертальцы жили на наших территориях! Мы их потомки, дальние-дальние родичи…
***
И, конечно, если возникали у тех или других племён «демографические проблемы», действовали по принципу взаимовыручки.
Чего не выручить соседа?
***
Подозреваю, что и великие любовные трагедии случались. И вылись, и мычались первобытные эти трагедии певцами любви на голых ветрах, среди гулких скал, в глубинах пещер, и слушали их потрясённые соплеменники, и проливали слёзы, но… помочь ничем не могли. У каждого – судьба своя, свой путь.
Это тайна, которую ещё предстоит разгадать, тайна двух параллельных миров, тайна их взаимной любви, незнаемой ныне…
***
Зуб и Капелька
…Зуб укутал мохнатыми, тёплыми кусками мамонтовой шкуры детей и уложил спать в дальнем, самом тёплом углу пещеры. Подвинул выкорчеванный пень, уже порядочно обгоревший с одной стороны, поближе к огню, дотлевавшему в середине жилища. Направил потоки дыма деревянными заслонами в аккуратно продолбленное отверстие каменного свода пещеры. И только после этого раздвинул плотно сплетённую из толстого хвоща колючую занавесь, надёжно прикрывавшую овальное и почти незаметное за ней устье пещеры.
Зуб вышел за добычей.
Тяжёлое солнце ударило по глазам после полумрака пещеры. Ещё бы, лишь тлеющее мерцание никогда не гаснувшего огонька освещало его жилище, а здесь, на резком свету и просторе, Зуб невольно прижмурился и отвернулся от солнца. Освоившись на свету, побрёл, было, к соседям, но вспомнил с досадой, что вчера уже побывал у них, и вернулся ни с чем.
Не хотелось оставлять малышей одних, но Урыл, охотник из соседней пещеры, только злобно и неуступчиво заурчал, когда Зуб попросил, чтобы его жена Угляда посторожила детей, пока он будет разделывать мамонта, вчера попавшего в его хитрую, укрытую лапником яму и вчера же добротно забитого камнями. Разделка требовала не только сноровки, её-то Зубу не занимать, но и времени.
Хорошо ещё, что успел ночью отточить чёрный, порядочно уже иззубренный базальтовый нож. Он требовался не только для разделки туши, для этого годился и простой гранитный топор. Острый нож незаменим для более тонкой работы, аккуратного и чистого отделения драгоценной шкуры от мяса…
***
…два параллельных мира, которые – всё же! – пересекались, пересекались. И не так уж редко, по-видимому. Именно — по видимому. Ведь я же их вижу! Въяве вижу, на улицах, в магазинах вижу…
Ну, не так чтобы совсем тех вижу, но черты их узнаю. Вот, к примеру, – Баски. Откуда они?.. В них сохранились более, чем у других, рубленые черты лица, «корявость» некая… или, вот, скандинавы… но о них разговор особый. Или северные русские – там такие встречаются!..
***
А вот – покатый лоб, нередко низковатый, «сплюснутый» (Максим Горький, к примеру), выдающиеся надбровные дуги (Лев Толстой) … особый, более мощный костяк, особая волосатость… да я не столько уже в детали всматриваюсь, более ощущаю эманацию, чую Образ Неандертальца. Всего. Целиком. Сразу.
Конечно, и черты кроманьонца там непременно проглядывают… но если проступает Неандерталец, я это сразу чувствую – родной!
***
Кроманьонцы – сгоревшие звёзды. Мы ещё видим свои собственные, горящие в небе, во вселенной, во времени – хвосты, искры, огненные полоски, но…
Эра кроманьонцев сгорела. Сгорела не вся, и не всё в ней, конечно, сгорело. Сгорело пошлое, хапающее, недальновидное, составившее в конце эры – несоразмерно Поэзии – большую часть смысла. Замысла Жизни…
***
«…вдруг вспышка ослепит – под илом жизни жирным
Блаженно заплелись, не разлепляя век,
Паук в глухом трико, червяк в чулке ажурном,
В пушистой шубе зверь, и голый человек —
С пучками в голове… под мышками… в паху…
Один, как дьявол, наг, один не на меху,
Один, издавший смех, один, впадавший в грех,
Один, снимавший мех
(Один за всех) —
Со всех!..»
(Здесь и далее по тексту почти все стишки – останки архива Великого. Великого чудака, чудика, сумасброда, поэта. О нём ниже, главным образом в завершающей части книги «Неандерталец», в части под названием «Певчий Гад»)
***
…не сказать, чтобы вовсе бесславно сгорели кроманьонцы, но их культура, их цивилизация оказались явно несоразмерны расширяющимся полям информации, мало приспособлены к мощи, к объёму всё более открывающейся вселенной, неожиданным пространствам нового неба, в которое вворачиваемся – поворачиваемся ещё, неуклюже там проворачиваемся…
Время Неандертальца – извернувшись через самоё себя – возвращается на землю. И это стоит отдельного разговора…
«…помню историю странную эту:
Мамонт, ушедший в могилу-планету.
Кости громадные… знаки дорожные…
«На пути История.
Осторожно…»
***
Ушли неандертальцы в неведомое измерение. И не от климатических каверз. Да и не от булыжников или топориков кроманьонцев, ушли от – Обиды. От великой обиды за нарождающуюся цивилизацию, вероломную, хапающую… они увидели её в самом начале. Но развернув это начало в мысленной перспективе, ужаснулись…
И предпочли уйти.
***
«Мамонты ржавые, как дирижабли,
Скрипят на канатах, поскрипывают…
Эпос планеты, космос державы,
Скрежет зубовный Истории
ржавой
Постскриптумами…»
2. Потоп.
Постскриптумами Истории, очередными, были останки Мамонтов.
Но не только. Много их, этих останков-постскриптумов. Останков и предостережений много… выводов мало.
А что следует там, за ископаемыми? Потоп? Или он – перед ними? Да и сколько их, потопов? Никто не сочтёт. Только снова и снова – потоп, потоп, потоп!..
Предвещанный древними, ставший почему-то (очередная спекуляция?) одной из самых «актуальных» тем. Изо всех экранов – галдёж о новом Потопе. Апокалиптика.
Кому-то это нужно…
Учёным, астрологам, политикам? Какой-то ещё мировой сволочи?
А какая выгода? Может быть, никакой. Тупик, и всё…
***
«…входит один в кабинет
Грустно глядящий бандит.
Говоришь ему – нет!
А он глядит и глядит.
Вспомни, мол, неолит…
…а потом приходит одна
И говорит – я вам жена.
Внучка мамонта и слона.
Вот те шуточки,
Вот те на.
Ну а на фиг,
А на хрена?..»
***
А не сами ли кроманьонцы, изверившись в себе, потоп приближают, и кликушествуют в самоутешительной истерике, и видят в нём избавление… от кого?
Да от самих же себя!..
«…и воды, и вечные воды шумят…»
А предвестья небес? А метеоритные дожди, а поезда астероидов, взявших курс на планету Земля? Кто-то их «прогнозирует» и тем самым приближает. А что там откроется, новый рисунок звёздного неба? Только и всего. Тоже мне, конец света. Размечтались…
***
Впрочем, красиво жить, тем более мечтать не запретишь. Конец Света…
А может быть, речь идёт о конце Нового Света? То есть, древние индейцы говорили о гибели их континента, а не всей планеты? В таком случае понятен американский интерес к новым территориям, на которые придётся переселяться.
А значит, и «волну погнать» в масс-медиа не лишнее, и сделать «проверку на вшивость» – погромить часть Африки, Азии, Европы, подобраться к России, которая – по всем прогнозам – чуть ли не единственная из всех стран уцелеет, благодаря мощной тектонической плите под Евразией…
***
Тот Свет… Новый Свет…
Отправиться в Новый Свет означало когда-то не только путешествие в Америку. Свидригайлов у Достоевского именно туда направлялся. Позже стало понятно, куда намеревался знаменитый самоубийца…
***
Сами же кроманьонцы, надоевшие себе, испугавшиеся себя, размечтались и придумали утешительную страшилку. Про Новый Свет…
***
И звёзды,
И вечные звёзды летят…
***
Обрыдли мелочность, несправедливость, равнодушие… всё! Всё бессмысленно, когда пожрать в три глотки, совокупиться где угодно, с кем угодно, сейчас же, не откладывая ни на секунду. Не дать себе засохнуть!.. – Апофеоз! Цивилизация-с.
Соки сосать, землю сосать… сла-аденько… поди, не откажешься…
***
И воды шумят,
И звёзды летят…
***
…а земля-то – махонькая…
***
…вот ропоты и зашумели, и небо переменилось, и океаны, и звёзды…
***
Шумят…
Летят…
***
Никуда не летят. Всегда летим – во вселенной. Хотя и живём в провинции, во вселенской глухомани, в маленькой солнечной системке, на отшибе Млечного Пути, в глухой-глухой деревеньке. А мним о себе…
Столичные жители, блин!
***
«Беда, беда! – вопиял в телевизоре заслуженный учитель литературы – дети перестают воспринимать язык Пушкина!.. Хлебникова им, видите ли, подавай…»
***
На стене школьного туалета:
«Все жанры хороши, кроме Пушкина»
***
Великий Велимир… великий Неандерталец Хлебников!..
***
…а вот, задолго-задолго: Давид – кроманьонец. Голиаф – Неандерталец. Голиаф мощнее Давида, но тот хитрее – не на «честной бой» пошёл, а заложил камень в пращу. «Контактного», честного боя не получилось. И всё пошло вразнос. Кроманьонцы начали диктовать свои законы.
В том числе законы Истории…
***
…Адам зарыт в Неандертальце…
***
Вообще-то эта книга о Великанах. О тех, кто не выдержал глобального нашествия лилипутов на планету, ушёл в иное измерение.
***
…Зуб шёл своей, только ему ведомой тропой, время от времени оглядываясь на родное стойбище, где копошились возле пещер и шалашей проснувшиеся собратья. Они уже разводили костры, протяжно и доброжелательно перекликались, приветствуя и поздравляя друг друга с благополучно наступившим днём, с новым, опять засверкавшим над стойбищем солнцем.
Ни в коем случае нельзя было рассекретить тропу, а с ней и тайное логово, ямину-засаду, куда он за свою долгую тридцатилетнюю жизнь заманил уже не одного мамонта. Так устроена жизнь – утешал себя Зуб. Не он её устроил. Зуб принимал жизнь такой, какова есть, и старался не задумываться, не казниться гибелью мамонтов.
Они, мохнатые и великие, ни в чём не виноватые перед Зубом, погибали, но дарили жизнь ему, его племени, любимой жене Пикальке, нарожавшей Зубу трёх мальчиков, а на четвёртой – целой тройне девочек – истекшей кровью…
Зуб тогда бился головой о скалы, весь искровянится, искалечил надбровные дуги, истёр о камень и сплющил уши так, что они с тех пор словно прилипли к вискам и потеряли растительность.
Но не погиб. Что-то держало его на этой угрюмой, беспощадной, и всё же прекрасной молодой земле. Всего-то около трёхсот тысяч солнц, как уверяли старцы и звездочёты, прожило его племя на этой земле. Разве это срок?
Но горе есть горе, и оно не знает срока. После смерти жены он не хотел больше жить, и в горе своём осознать не мог поначалу – что, что его здесь удержало?
Потом опомнился – дети. Конечно, сородичи не бросили бы их в беде. В племени Зуба жили благородные, добрые люди, но сироты никогда бы не заняли в их жизни и судьбе достойного места. Мальчиков скорее всего не посвятили бы в охотники, и они вынуждены были б всю жизнь занимать вторые, если не третьи роли – сторожей, разделочников, костровых.
И уж, конечно, своей собственной пещеры им бы не досталось. Во всяком случае, на привычной, родной, исконной территории родного стойбища у Красного скального плато. Там, где вечерами, на закате, в ясные дни заходящее солнце показывало причудливые световые картины для всего племени. Вот уже это было зрелище из зрелищ!..
Великолепную пещеру Зуба заняли бы другие, кормильцы его детей. Так было заведено по старинному обычаю племени, и он уже ничего не мог изменить. Судьба девочек вообще представлялась туманной. Роль третьих или четвёртых жён Родоначальника была бы не самой для них плохой. А скорее всего, судьба общей прислуги племени ожидала бы их, оставшихся сиротами без могучего Зуба…
***
Практически все эпосы мира, так или иначе – о великанах и лилипутах. Задолго до Свифта. Помню, в юности поразил эпизод из кавказского эпоса «Нарты». Нарты были великанами – благородными, трудолюбивыми, бескорыстными. Немногочисленными, в отличие от обычных людей, которые плодились, как мурашики, по всей земле.
И однажды, в поисках новых земель, добрались эти «мурашики» до обиталища Нартов. Раскинули шатры, шалаши, стали строиться, жечь костры, разводить скот, торговать – не обращая ни малейшего внимания на Великанов-Нартов, истинных хозяев этих благословенных мест.
Людишечки-мурашечки уже успели понять, что Великаны не способны на агрессию, низость, и потому совершенно их не опасались. Только упорно, метр за метром «наезжали» на угодья Нартов. И тогда Великаны, которые могли раздавить всю эту мелкую хищь одною пятой, собрались и решили:
«Пришёл маленький человек, надо уходить…»
И, сказав эти великие слова, ушли. Сначала в снежные горы, а потом – в иное измерение.
Дико, но я это вижу, вижу!..
Но ведь и они, Великаны, видят нас, знают о нас всё и, кажется мне, незримо помогают нам. А вовсе не враждуют, не борются с маленькими…
Чем это доказать? А ничем. Верю, и всё.
***
«…прочтёшь порой: «Вся жизнь – в борьбе».
Становится не по себе.
Язвят все розы… жгут уста…
Какие грустные места!»
***
А ещё точнее, книга о странных людях.
А ещё-ещё точнее – о сторонних.
Не путать с посторонними…
***
3. Тля
С посторонними просьба не путать, граждане. Граждане, послушайте внимательно. Может быть, услышите что говорю? Говорю почти ниоткуда…
Неандерталец – Мужик. Мужик с большой буквы. А кроманьонец, это тот самый, кого подразумевает неудовлетворённая женщина, с тоской вспоминая о Настоящем, о Сильном: «Мужиков не осталось… измельчал мужик…»
***
…и при чём тут олигархи? Человечество проворовалось! Кроманьонцы, мля… Одно слово – кроманьонцы…
***
Сколько раз, сидя где-нибудь в кафешке-пивнушке, в компании серьёзных честных мужиков, клеймящих наперебой воров при власти, растащивших страну, вдруг ловил себя на подозрении: а вдруг они не воров клеймят, а завидуют тем, кто оказался на жирном месте?
Я начинал вслушиваться не в смысл слов, а в их тональность, и почти каждый раз обнаруживал – а, пожалуй что, догадка не зряшная. Завидуют. Интонацию не обманешь.
…да и то ведь сказать, двурукому-двуногому, хапающему существу никак, вы ходит, нельзя не позавидовать тем, кто оказался у кормушки. Ну, никак! Сами руки так устроены – пальцы на себя тянут, а не от себя. Сжимаются в горсть, в кулак. Вот кабы наоборот, кабы так вывернуты были руки, что: «Возьми!.. Возьми…» кричали, а не «Дай, дай!»…
Но тогда и человечество было бы иным, не таким, как теперь. А мы уже так привыкли друг ко дружке, к слабостям своим, к мерзостям своим… да и вообще, – жалко человечишку…
***
После Коперника человек растерял величие. Кто он отныне? Тля во вселенной.
А вот когда солнце вращается вокруг земли, когда земля плоская и стоит на трёх слонах, а те на гигантской черепахе, когда самая большая планета – Луна, и она послушно вращается только вокруг Земли, а на земле стоит Человек, тогда он – велик. Тогда он пуп земли, царь мира. Вот тогда можно вершить великие дела. И ведь – вершили!
***
«…будто это простое полено,
Из которого выдрали нерв,
Деревянные стены вселенной
Изнутри точит вдумчивый червь,
Под беспечною кроною лета
Он глюкозною грёзой поэта
Наливается, тих и багров,
И громадными гроздьями света
Осыпается осень миров…»
***
Сторонние люди – нынешние великаны. Они не такие, как все, они – мощные неандертальцы (несмотря на невзрачную видимость) в хилой среде кроманьонцев. Вот их-то ищу, о них пою. Они не такие…
Те куски, что вошли в эту книгу – о Рабочем, о Васе-Чечене, о великих Аксакалах, подбрасывающих кости над арыком, увитом травой, о Великом Чудике-Идиоте, Певчем Гаде, и о многих других, с которыми ещё встретимся – вот они-то и есть сторонние люди.
Они – Дети! И это главное.
Как нож сквозь масло, проходят они сквозь гибнущую цивилизацию кроманьонцев. И – не унывают, не унывают, не унывают никогда!..
***
А все последние столетия русская (светская) поэзия, по форме своей и по приёмам, так или иначе зависящим от формы, была европейской. Бессмысленно отрицать хотя бы потому, что начиналась силлаботоническая наша поэзия с переводов европейской классики, «Телемахиды», Горация, других образцов европейской поэзии. И уже только много позже смогла пробиться к самой себе (почти к себе), к вершинам, доныне сверкающим в хрестоматиях.
Но ведь и у Баркова (кстати, переводчика Горация, а не только автора похабных виршей, многие из которых ему попросту приписаны, как большинство рубаев Хайяму), и у Пушкина взгляд был ориентирован сперва на Европу, а уж потом на Россию, на её истоки.
Молодой Пушкин вышел из Парни, из его «Войны богов», насквозь пропитанной светским, «европейски утончённым» развратом, чем и объясняется фривольность ранних сочинений. Собственно русский Пушкин начинается с отеческих преданий, с «Руслана и Людмилы», с великого вступления к поэме: «У Лукоморья дуб зелёный…»
***
…ближе к полдню Зуб подошёл к Реке, сверкнувшей на солнце весёлыми искрами. Всё. Туда, за Реку, нельзя. За Рекой – Другие. С Другими был давний, никогда не нарушавшийся договор – они сами по себе, мы сами по себе. И это длилось с незапамятных времён. Нельзя, и всё. И вам хорошо, и нам. Так рассудили когда-то сами Великаны – передавали из поколения в поколение старики.
Великаны обитали за ближним хребтом, но наведываться к ним, даже за простым советом без чрезвычайной надобности не полагалось. Да и сами, без помощи Великанов, управлялись неплохо. До поры до времени…
Зуб наклонился к прозрачной Реке и зачерпнул – пригоршню за пригоршней – вкусную ледяную воду. Напился вдоволь, медленно встал с коленей и распрямился во весь рост. Томила полдневная жара. Зуб скинул меховое оплечье, снова зачерпнул воды и стал протирать мокрыми холодными ладонями запотевшие плечи, спину, шею.
Силы и бодрость возвращались. На всякий случай Зуб оглядел местность, тропу к водопою, невдалеке от которой скрывалась под ветвями и травой его западня, не прячется ли кто в кустах. Никого, кажется, не было. Река спокойно текла и ясно переливалась под солнцем…
И вдруг, неподалёку от берега, в воде плеснула большая, белая рыба! Зуб внимательно всмотрелся в прозрачные прибрежные воды, и тут…
И тут он увидел её…
***
Поэзия… что это такое, кто такая? Вопросы. Особенно остры о русской. Несмотря на гениальные взлёты, она во многом так и осталась европейской – по форме в первую очередь. Ну, разве можно русские былины – с их протягновенным ритмом, с их долгим дыханием, объемлющим всю долготу русских немеряных пространств – сравнить со светской поэзией? Пол-страницы занимает один только проход по борозде Сеятеля, зачерпывание из лукошка пригоршни зерна и разброс её в правую сторону. Ещё пол-страницы – по левую. Вот это Ритм! А исторические, народные песни, колыбельные, сказки, пословицы, поговорки, загадки?..
По форме светская поэзия была и осталась европейской. Это в первую очередь.
А во вторую – по содержанию.
Да, осталась европейской, и не столько по сути (глубоко русской в великих образцах), сколько по тому содержанию, что неизбежно несло в себе следы «орфического» соблазна, основанного на грехе, на любовании грехом, на сладострастии.
Предшествовавшие силлаботонической поэзии два века (16-й, 17-й) были тоже не русскими в нашей светской поэзии. Подчёркиваю, – народная поэзия, в отличие от светской, всегда была исконно русской. Как по форме, так и по сути. Но она была устной, и шла она, параллельно письменной, – вдоль…
***
«…ни моды, ни мёда, ни блуда, ни яда,
Ни сада… какая ты, к ляду, наяда?..»
***
4. Таянье тайны
Ни блуда, ни яда не выцедить из силлабического, слогового русского стиха.
Но зато уж из послереформенного, силлаботонического – сколько угодно.
Даже более чем.
Раскололась русская светская поэзия на два материка – до реформы, и – после реформы. Настоящими реформаторами нужно признать всё же не Тредиаковского с Ломоносовым, они лишь первопроходцы, честь и хвала, а в первую очередь – Баркова, а вослед за ним Пушкина, т.е. главных создателей более свободного, современного языка в русской поэзии.
Только после них так отчётливо стала ясна эта «реформа», которая, по глубинной сути, ни хрена не стоила. Подлинно свободный русский стих остался и остаётся там – в былинах, сказах, народных песнях.
***
…да ведь и весь русский мир чуть ли не изначально был расколот на два лагеря. На Чёрную и Белую кость. Эту бытийную трагедию ещё только предстоит осознать, добравшись сперва до Русского Раскола, а потом и до дружинно-княжеского культа…
Но пока – о последствиях поэтических.
В 16—17 веках царствовала в России польско-латинская силлабика, очень неудобная для русского языка, словно телега на квадратных колёсах…
Но вот что удивительно – этот слоговой, а не тонический стих практически исключал соблазн сладострастия. Самые крупные поэты той поры Симеон Полоцкий, Карион Истомин, Сильвестр Медведев писали назидания и поучения юношеству о почитании старших, особенно родителей, правила поведения в церкви, в быту – и ничего более. Не знаю, как тогда воспринимались эти вирши, сегодня их мало кто способен прочесть без зевоты. Одно несомненное достоинство у тех виршей было – полная свобода от греха, соблазна сладострастия, приплывшего к нам с «раскрепощением» современного силлаботонического стиха, основы которого принято вести от Пушкина. Вообще-то, повторим сказанное, надо бы вести его от Баркова, настоящего учителя А.С.Пушкина. У Баркова он воспринял главное – современный русский, раскрепощённый, «пушкинский» язык… но не в этом суть.
Суть в том, что магический кристалл, о котором писал Пушкин, оказывается вовсе не статичным, но – подвижным. И при небольшом даже повороте его во времени некоторые грани и стороны этого кристалла уходят в тень, а из тени выступают иные, дотоле не очень-то видимые…
***
…большая белая рыба медленно приподнялась над водой, зафыркала, завыгибалась всем телом, стряхивая воду, и медленно вышла на берег. Зуб едва не свалился на землю.
В глазах у него потемнело. Потряс головой, взгляд слегка прояснился…
Рыба оказалась молодой, совсем незнакомой женщиной, не похожей ни на кого из тех, кого он встречал прежде.
Зуб очень любил свою покойную жену Пикальку, не мог забыть ни её, ни первые юношеские их встречи. Никто из девушек племени так и не смог завоевать его сердца. А хотели многие! Зуб был завидной добычей. Ещё бы! Широченные плечи, котлом выпиравшая грудь, крепкие руки, короткие, но очень мускулистые ноги, выдающиеся скулы и мощные челюсти. Почти двухметровый, он казался великаном среди низкорослых соплеменников, и у него была лучшая после Родоначальника пещера. Но Пикалька, любимая Пикалька…
Он постоянно вспоминал её и грустил, всегда грустил, вспоминая. Вот и теперь, глядя из-за ветвей на диво дивное, явившееся из воды, невольно сравнивал с родной Пикалькой. Жена его, хотя и была самой маленькой среди девушек племени, казалась теперь Зубу очень крупной женщиной. Да и выглядела совсем иначе.
У Пикальки была смуглая кожа, широкие бёдра, плотные мускулистые ляжки, и груди совсем не так вызывающе торчали, как у этой белокожей незнакомки. У этой они прямо торпорщились алыми сосками, задранными чуть ли не в самые небеса. У Пикальки груди, даже в ранней молодости, ещё до родов, свисали нежными полными мешочками до самого пупка. И это очень нравилось Зубу.
Это говорило о здоровье будущей матери. Зато когда уж наливались молоком, становились прямо-таки необъятными. Такими грудями можно было выкормить не двух и не трёх детишек, а, пожалуй что, пятерых. И правда, излишек молока Пикалька сдаивала в большую каменную чашу и относила в закут молоденьким козлятам. А потом, смеясь, говорила Зубу, что у неё не трое сыночков, а ещё добрая половина закута…
Зуб неотрывно глядел на незнакомку и никак не мог понять кто она, откуда явилась сюда, на чужую территорию, как одолела большую небезопасную реку?.. Осторожными манёврами охотника, неслышным и незамеченным он перебрался на другую сторону речной отмели, где незнакомка-рыба-девушка отжимала свои льняные волосы.
Крупные капли стекали с длинных прядей по её белому телу, повторяя все диковинные, дотоле невиданные Зубом изгибы. Капли медленно проползали меж высоко, даже нагло, казалось Зубу, вздёрнутых, необычно белых грудей, зависали на бёдрах, на ржаном, нежно искурчавленном лобке. А одна капелька, вспыхнувшая под солнцем, повисла на левом соске, и при полуобороте незнакомки в теневую сторону, вдруг отчётливо озарилась багряным светом.
Зуб молча ахнул и прошептал про себя: «Капелька…»
***
…наряду с ошеломительным расширением информационных полей, с внедрением интернета как бы сама собою стала раскадровываться панорама столетий русской литературы, поэзии. И вот, предстала вдруг она, словно поднятая, взвешенная на ладони и сильно уменьшившаяся прелестная игрушечка.
Отчётливо зримая. Оче-видная.
Гораздо явственнее, нежели прежде, проступили сквозь столетия «изящной литературы» подлинные, корневые истоки великой русской Поэзии. Осозналось, наконец, что светская поэзия со всеми её гениальными взлётами, лишь верхушка айсберга, сверкающая её вершина.
Стоит только вновь, через столетия, проникнуть незамутнённым взглядом в истоки русского поэтического мира, чтобы увидеть там, в чистых истоках не европейские и не азиатские формы, а именно что – русские. Во всей их уникальности.
Но вот беда, после двух веков безусловно гениальной светской поэзии (исключение, пожалуй, лишь самородок Кольцов, словно бы из глубин народных возникший) современному читателю кажется, что иного и быть-то не могло, иное просто невообразимо. Ещё бы, такие имена! Пушкин, Лермонтов, Тютчев…
Имена мощные, что говорить.
Но исподволь сложилось ощущение, что современному читателю потребна уже не столько русская, сколько изящная поэзия. А вот отсюда совсем недалеко до пресловутых: «ищячная словесность» и «сделайте нам красиво». То есть – гладенько…
Лишь в 20 веке, после Революции, потрясшей все «европейские» основы и уклады, самым гениальным поэтам удалось заглянуть через те сверкающие (и – ослепляющие) вершины, приникнуть к истокам, и от них уже вести свою поэтическую, духовную летопись русского мира.
Это удалось Велимиру Хлебникову, Ксении Некрасовой, Андрею Платонову (он поэт, каждой строчкой поэт!).
***
…нет, всё-таки придётся употребить похабное слово. «Бренд». Не хочется, но придётся. И где? В разговоре о России. Ну, нету русского бренду у русской поэзии в мире! Нету. И весь сказ.
Можно не продолжать, ситуация ясна и печальна. Но вот, именно во преодоление печали придётся развернуться.
У русской великой прозы бренд есть. Она более русская, чем поэзия. Романы Толстого, Достоевского, странные, никем не понятые пьесы Чехова – это уже давно и прочно мировой бренд.
А вот ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Тютчева, ни остальных наших – самых гениальных! – поэтов на западе не знают. И знать не хотят. А зачем? Наши поэтические классики открывали для России Европу, а Европе зачем себя снова открывать, да ещё через сомнительные переводы? Европе нужна корневая суть России. А строчить столбиками они и сами умеют. Приличия ради хвалят наших классиков, но не ценят. Во всяком случае так, как мы ценим Гомера и Данте, как их фольклор и мифы – от древнегреческих до скандинавских… – нет, не ценят.
***
А вот что оценили бы, так это воистину русское. Если раскрутить и с толком подать. Как русский балет, к примеру. Но для раскрутки и подачи русской поэзии одного подвижника, даже такого мощного как Дягилев, мало. Здесь должна быть государева воля. А главное – государственная, толково продуманная, поступательная, долговременная программа, а не компанейщина к дате.
Что, собственно нужно? Да не так уж и много. Собрать для начала с десяток хороших актёров, по-настоящему, задушевно умеющих петь народные песни, несколько талантливых поэтов, глубоко знающих и любящих русскую поэзию, несколько очень толковых учёных-фольклористов.
И всё, пожалуй, для начала команда готова. При условии, разумеется, что средства (да совсем невеликие, в сравнении с величием задачи!) выделены.







