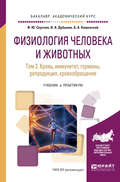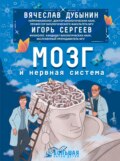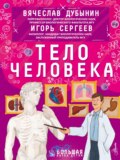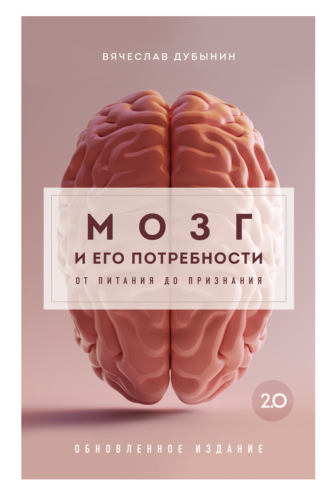
Вячеслав Дубынин
Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания
Нейронные сети
Нервные клетки поодиночке, конечно, не работают. Чтобы организовать даже самые простые функции, они должны собираться в цепи и сети. Изображенная в нижней части рис. 1.1 нейронная сеть состоит всего из пяти нервных клеток. И если вспомнить, что дендриты принимают информацию, а аксоны передают, становится ясно, в какую сторону по этой сети идут сигналы. Они идут от нейрона 1, он на входе, дальше – к нейронам 2 и 3, а от них уже к нейронам 4 и 5, которые в итоге передают возбуждение на мышцы (6) и на внутренние органы (7).
Нейроны, изображенные на схеме, относятся к четырем функциональным группам. Те, которые находятся на входе в нейросеть, как правило, связаны с органами чувств, их называют сенсорные. Они понимают прикосновения, улавливают запахи, различают температуру. Помогают нам ощущать окружающий мир. Нейроны, расположенные на выходе, – это мотонейроны (двигательные) и вегетативные. Первые – запускают сокращение мышц. Любое наше движение рукой, подмигивание или нажатие кнопки на ноутбуке начинается с импульса, возникшего в мотонейронах. Вегетативные нейроны работают с внутренними органами: с сердцем, сосудами, кишечником, бронхами. Основная разница между мотонейронами и вегетативными состоит в том, что первыми мы умеем управлять. Мы по собственной воле нажимаем кнопку на клавиатуре. А вегетативными, как правило, не можем: мы не способны силой мысли изменить частоту сердцебиения. Ну, если мы не столетний йог из Непала, конечно.
Это кажется несправедливым – почему бы не дать нам доступ к управлению всеми системами организма? Но эволюция наложила «вето» на вход в эту часть нейросети неспроста. Если вспомнить аналогию мозга и компьютерного центра, получается, что наше сознание – это пользователь, который постоянно имеет дело с тысячами компьютеров. Некоторыми из них он может управлять, другие просто видит «онлайн» и может понять, что они работают, но пароля на внесение изменений в систему у него нет. Например, наше сердце бьется с определенной частотой, мы можем измерить пульс. Но чистым волевым усилием, без десятилетий занятий йогой или БОС – биологической обратной связью (тут вам понадобится всего несколько недель), человек не может его замедлить или ускорить.
Наконец, в нашем «компьютерном центре» есть такие вычислительные устройства, которые явно что-то делают, но сознание вообще не в курсе специфики их активности. Это относится, например, к выделению гормонов. Эта функция находится в ведении части головного мозга, которая называется гипоталамус. Но наше сознание (центры коры больших полушарий) совершенно не отслеживает этот процесс. Возьмем гормон роста. Он выделяется под контролем гипоталамуса, но волевым усилием еще ни одному, даже самому просветленному йогу, не удалось подрасти хотя бы на 10 сантиметров. Существование скрытых от сознания «компьютеров» связано с тем, что соответствующие блоки мозга отвечают за нечто столь важное, что «пользователю» туда просто нельзя влезать, иначе можно наломать дров и «уронить» всю систему. Мы можем контролировать прежде всего движения, мысли, отчасти – эмоции, но прямой вход в вегетативную сферу сознанию весьма затруднен.
Вернемся к схеме нейросети. Нейроны 2 и 3 – промежуточные нервные клетки (интернейроны), и они в этом ансамбле играют ведущую партию. От них зависит, пойдет ли поступивший сигнал дальше, «на выход», и вызовет ли, скажем, прикосновение какую-нибудь реакцию. Именно интернейроны принимают решение о запуске реакций, они же отвечают за такое свойство, как память. И больше всего именно этих клеток – которые связывают вход и выход. В сложном мозге типа человеческого 95 % клеток промежуточные, а на входе и выходе (например, те, что принимают внешние сигналы или запускают движение) – не более 5 % нейронов. Получается, что обработка информации – основное занятие нашего «процессора».
Промежуточные клетки способны обмениваться сведениями: на нашей схеме отросток аксона, принадлежащий клетке 2, идет к клетке 3. Даже сеть, состоящая всего из пяти нейронов, способна к весьма разнообразным операциям. А если это не 5, а 500 нейронов? Или 5 миллионов? В таких условиях возникают самые разные информационные потоки, сложные, интересные и непредсказуемые. Поэтому наш мозг сравнивают не с обыкновенным, а с шумящим компьютером. Это в ЭВМ 5 × 5 = 25 – всегда. А у нашего мозга может получиться и 24, а иногда и 27. И это правильно.
Мозг обязан «шуметь». Он должен генерировать в определенной степени стохастическое, то есть случайное поведение. Это эволюционно выгодно.
Если бы заяц всегда убегал от лисы предсказуемо, например строго по прямой, его быстро бы поймали и съели. Важна именно определенная хаотичность движения, чтобы ушастый бежал иногда вправо, иногда влево, двигался зигзагами, прыгал через кусты. Это биологически верно и оставляет ему шанс на выживание. В конце концов, наш мозг сделан не для того, чтобы работать с точными цифрами, как компьютер. Его задача – пытаться спрогнозировать будущее и так разнообразить наше поведение, чтобы удовлетворить свои потребности и выжить. Или, скажем, выиграть футбольный матч.
Макроанатомия мозга. Его строение
Для понимания основной темы книги – мозг и его потребности – необходимо перейти на следующий уровень – макроструктурный, вспомнить анатомию мозга. Материал этот включен в школьную программу. Но так как не каждый взрослый человек помнит о том, что он слышал в школе, кратко повторим строение центральной нервной системы. Особенно актуальны для нас знания о гипоталамусе, базальных ганглиях, среднем мозге, коре больших полушарий.
Центральная нервная система (ЦНС) – это головной плюс спинной мозг. Находятся они соответственно внутри черепа и внутри позвоночника. Думаю, это вам известно. Устройство спинного мозга в сравнении с головным существенно проще.
Спинной мозг
Как наше тело от шеи до копчика делится на 31 этаж (да, именно этаж, такая вот «высотка»), так и спинной мозг делится на 31 сегмент, каждому из которых примерно соответствует один позвонок. За такую сегментацию отвечают особые гены, включающиеся на очень ранней стадии развития эмбриона – уже в первые недели беременности.
Каждый сегмент спинного мозга работает со своим этажом тела: получает кожную и болевую чувствительность, сигналы от суставов и сухожилий, управляет мышцами и внутренними органами. В этом мы весьма похожи на дождевого червяка или гусеницу бабочки – помните, какие у них кольца на тельце? Только у гусеницы сегменты выражены очень четко, а у нас хоть и не видны, но все же существуют.
Выделяют восемь шейных сегментов (шея, руки, дыхание), двенадцать грудных («этажи» грудной и брюшной полостей, мышцы туловища), пять поясничных сегментов (ноги) и шесть крестцово-копчиковых (область таза). Если, например, шестой грудной позвонок сместится относительно седьмого, он передавит те нервы, которые выходят из шестого же грудного сегмента спинного мозга. А дальше человека не ждет ничего хорошего. Он ощутит боль где-нибудь в районе ребер, и это будет связано не с каким-то реальным повреждением или травмой, а с тем, что спинной мозг плохо передает сигналы. В довесок может ухудшиться работа сердца или кишечника.
Когда врачи говорят, что половина болезней – от позвоночника, они правы, потому что передача информации в спинной мозг и из него нарушается довольно легко. Например, если позвонки из-за сколиоза сдвинулись в сторону (что совсем не редкость при сидячем образе жизни), существует вероятность, что они нажмут на веточку какого-нибудь нерва. Мы – прямоходящие существа, но за те несколько миллионов лет эволюции, что прошли с момента, когда наши предки встали на две ноги, позвоночник так толком и не приспособился к тому, что его ненормальный хозяин стоит и ходит вертикально. Поэтому к 40 годам у большинства людей спина уже болит.
Каждый сегмент спинного мозга работает со своим этажом тела, а еще общается с «большим начальником» – головным мозгом. Существуют информационные потоки, связывающие ладонь с шейными сегментами спинного мозга, а дальше эта информация уходит к «руководству». Если мы ощущаем, что, например, что-то ползет по большому пальцу руки, это означает, что импульс сначала добежал до спинного мозга, а потом поднялся в кору больших полушарий, где находятся высшие психические центры. Они, собственно, и отвечают за возникновение ощущения. А если человек понимает, что по нему ползет паук, и стряхивает его с ладони, значит, процесс пошел обратно: импульс сначала возник в коре больших полушарий, опустился в соответствующий сегмент спинного мозга, а дальше уже ушел по аксону мотонейрона на нужную мышцу – нервно-мышечный синапс заставил ее сокращаться. А пауку придется поискать себе другое место, чтобы ползать.
У взрослого человека подобные реакции происходят достаточно быстро и автоматически, потому что мы учимся этому в первые годы нашей жизни. Ребенок же появляется на свет почти без двигательных навыков (хотя некоторые из них начинают закладываться еще в утробе матери). Младенец в первые месяцы жизни тратит массу усилий на то, чтобы овладеть своей мышечной системой на уровне отдельных движений. Пытается понять, как держать голову, перевернуться на живот, как бы покрепче ухватить родителя за волосы. И только в полгода приступает к «шлифовке» локомоторной активности – потихоньку ползает и пытается ходить.
Головной мозг
Можно выделить три основные зоны головного мозга: ствол, мозжечок и большие полушария. Ствол – центральная область головного мозга, весьма древняя структура, которая имеется уже у рыб. Ее эволюционный возраст, по-видимому, не менее 500 млн лет. От ствола мозга, как от ствола дерева-мутанта, вырастают целых две «кроны»: одна покрупнее – большие полушария, а другая поменьше – мозжечок, то есть малый мозг. У всех позвоночных головной мозг устроен по одному и тому же плану. Все мы родственники, а интенсивная эволюция млекопитающих происходила последние 66 млн лет (после вымирания динозавров).
У человека, как известно, не самый большой мозг на свете. У слона или у кашалота он в несколько раз увесистее. Если существо крупное, с большим массивным телом, то и мозг для управления этой махиной тоже нужен большой. Но он в основном занимается внутренними органами, движениями, кожной чувствительностью – поймать кальмара, отмахнуться от мухи. А вот высшие ассоциативные зоны уникальны для человеческого мозга. Только у нас они такие большие! Поэтому слон не может писать стихи и придумать, как он будет отмечать Новый год. А человек – может.
Ствол головного мозга включает четыре отдела: (1–2) продолговатый мозг и мост – это две самые нижние стволовые структуры, и они находятся под мозжечком; (3) средний мозг; (4) промежуточный мозг, находится «промеж» полушарий – от него во время развития эмбриона направо и налево отрастают два больших полушария. Их также называют конечным мозгом.
Итого получается шесть основных отделов головного мозга. Они изображены на рис. 1.2. Две крупные полости внутри мозга – третий и четвертый желудочки, а также соединяющий эти полости канал (мозговой водопровод – нет, сантехник ему не нужен).
Продолговатый мозг и мост мы будем все время объединять, потому что с точки зрения функций это единая зона. Они вместе занимаются самыми необходимыми для организма функциями: дыханием, работой сердца. Мозжечок – важнейший двигательный центр, в том числе он отвечает за наше равновесие, ходьбу, бег и прочие моторные навыки. Средний мозг находится между мостом и промежуточным мозгом.
Верхняя часть промежуточного мозга называется таламус, нижняя – гипоталамус, а под гипоталамусом находится гипофиз – эндокринная железа. Здесь же, в промежуточном мозге, имеется и вторая эндокринная железа – эпифиз.
Запутались?
Ничего страшного, сейчас разберемся.
Самая крупная область ЦНС человека – большие полушария. Правое и левое соединяются крупнейшим скоплением аксонов – мозолистым телом. Оно «собирает» полушария в цельный вычислительный комплекс. Если у человека повреждается мозолистое тело, у него могут возникать симптомы, сходные с «раздвоением личности», когда полушария начинают работать отдельно. Правое запускает одни движения, левое – другие, нарушается координация, моторика, рассинхронизируются ощущения в правой и левой стороне тела.

Рис. 1.2. Схема продольного среза головного мозга человека. Показаны шесть отделов головного мозга, две крупные полости внутри него – третий и четвертый желудочки, а также соединяющий эти полости канал (мозговой водопровод)
Продолговатый мозг и мост. Они занимаются жизненно важными функциями, без которых просто невозможно существовать. Понятно, что эти функции эволюционно самые древние, с них все начиналось. Например, уже у какой-нибудь селедки эти отделы устроены примерно так же, как у нас.
Во-первых, здесь находится штаб-квартира по управлению дыханием. Каждый наш вдох и выдох запускается из продолговатого мозга и моста.
Во-вторых, здесь же находится центр, который нейрофизиологи называют сосудодвигательным. Состоит он из нейронов, управляющих работой сердца, тонусом сосудов, всей сердечно-сосудистой системой. Это огромное хозяйство, с помощью которого, например, регулируется кровоток в разных частях нашего тела, кровяное давление. Руководство этими процессами является жизненно важной задачей.
В-третьих, здесь базируется все, что связано с врожденным пищевым поведением. Центры вкуса, центры, запускающие глотание, слюноотделение, сосательный рефлекс, выплевывание, рвоту, – то, что у младенца должно работать сразу, иначе он не сможет питаться.
В-четвертых, продолговатый мозг и мост содержат главный центр бодрствования. Этот штаб собирает сигналы от всех сенсорных систем и возвращает человека из мира снов, если, например, зазвонил будильник или кто-то потряс его за плечо. Любой сильный входящий сенсорный сигнал способен разбудить мозг, а потом из продолговатого мозга и моста волны активации расходятся по всей ЦНС – от спинного мозга до коры больших полушарий. И мы меняем состояние с сонного на бодрствующее. Если повредить эту зону, возникнет коматозное состояние. Любое повреждение продолговатого мозга и моста, даже самое незначительное и «микроскопическое», – смертельно опасно, потому что из-за этого может «выключиться» дыхание или нарушиться способность правильно глотать.
Мозжечок – это прежде всего двигательный центр. Движения нашего тела чрезвычайно разнообразны. Если мы хотим, то произвольно двигаем рукой, ногой, головой. Бывают движения, связанные с перемещением в пространстве: бег и шаг (локомоция). Особо выделяют рефлекторные движения – когда мы, например, отдергиваем ладонь от горячей кастрюли.
Мозжечок отвечает только за автоматизированные движения – те, с которыми мы поначалу никак не могли справиться четко и эффективно. Они были для нас новыми, но мы их повторяли, повторяли – и наконец выучили. Писать карандашом или кататься на велосипеде – именно на уровне мозжечка происходит запоминание таких двигательных программ, их автоматизация. Когда мы раз за разом повторяем одни и те же действия, нейроны мозжечка запоминают, как выполнять их быстро и качественно. «Повторение – мать учения» – знаете такую поговорку? А пока мы учимся, такими движениями в основном управляет кора больших полушарий. Она осуществляет произвольный контроль. Поначалу вы должны смотреть, как ставите ноги на педали велосипеда, куда направляете руль, следить за каждым поворотом колеса, за дорогой, а заодно помнить о балансе. Но если вы повторите все эти манипуляции сто или тысячу раз, возникнет двигательный автоматизм. И уже не кора больших полушарий станет управлять движениями рук и ног, а мозжечок. Мозжечок крутит педали и поворачивает руль, а кора больших полушарий в это время, например, слушает аудиокнигу. Смысл автоматизации состоит в том, чтобы разгрузить большие полушария и передать рутинные, повторяющиеся часто и помногу движения под управление мозжечка. Проще говоря, не думать там, где можно не думать.
В мозжечке находится несколько зон, которые занимаются разными видами движений.
Есть центральная часть, червь, она отвечает за поддержание равновесия (автоматизация вестибулярных рефлексов). Ее обучение стартует с того момента, когда ребенок начинает держать головку, учится сидеть и вообще всячески пытается подружиться с гравитацией.
Средняя зона мозжечка, внутренняя часть полушарий, отвечает за автоматизацию локомоции и учится, когда мы начинаем ползать, ходить, бегать, плавать – то есть перемещаться в пространстве, ритмически сгибая руки и ноги. Как локомотив, который тянет вагоны из пункта А в пункт Б.
Наружная часть мозжечка (внешняя область полушарий), ее называют новой частью, эволюционно возникла позже всего. Она отвечает за движения, в развитой форме присущие только человеку, – за тонкую моторику пальцев и речь. Мы долго и трудно учимся говорить, постепенно овладеваем фонемами, словами. Так же долго разбираемся с тем, как писать, работать напильником или лепить пельмени. Все это – чисто человеческие искусства, и дело с ними у нас идет медленнее.
Мозжечок занимается автоматизацией самых разных движений, и если что-то в нем ломается, то привычное действие снова становится произвольным. После травмы мозжечка приходится усилием воли поддерживать равновесие, сгибать и разгибать ноги во время ходьбы. То есть, вопреки расхожему мнению, разучиться езде на велосипеде все-таки можно.
Помимо мозжечка, автоматизацией движений занимается еще одна обширная зона нашего мозга, которая называется базальные ганглии. Они находятся в глубине больших полушарий (см. рис. 2.1 в главе 2).
Мы знаем, что снаружи больших полушарий располагается кора. Это целые слои нейронов, идущие параллельно поверхности мозга и выполняющие самые важные и сложные функции: сенсорный анализ (ощущение прикосновения, запаха и т. п.), речь, принятие решений, произвольные движения (те, которые мы осознанно контролируем, например забиваем гвоздь).
А вот в глубине больших полушарий находится еще несколько скоплений серого вещества. Их объединяют в целостный комплекс – базальными ганглиями. Основная часть их нейронов работает вместе с мозжечком – фиксирует повторяющиеся двигательные программы, паттерны. То есть если мозжечок, например, запоминает отдельные движения танца, то базальные ганглии будут автоматизировать переход от фигуры к фигуре, помнить танец в целом.
Рассмотрим теперь средний мозг. В его верхней части находится так называемое четверохолмие – зона, которая реагирует на новизну стимулов. Ее нейроны выделяют новые зрительные и слуховые сигналы. Четверохолмию, строго говоря, все равно, что мы там видим и слышим, – важно, что произошло изменение. Именно оно детектирует эту новизну и заставляет нас поворачивать голову, если что-то зашуршало в кустах или кто-то рядом крикнул «Эй!». Благодаря четверохолмию наш организм эффективно собирает новую информацию. По сути, с ним связано любопытство на самом его древнем уровне. Ну правда, что это там шуршит в кустах?
В центре среднего мозга находится структура, которая так и называется – центральное серое вещество, и это главная область, которая запускает сон.
Если помните, наш главный центр бодрствования находится в мосте и продолговатом мозге, а вот центр сна – в среднем мозге. И они все время друг с другом конкурируют.
В зависимости от того, кто выиграл, мы переходим в сонное либо в бодрое состояние. А вот если никто не завоевал лавры победителя, мы оказываемся в некой полудреме, особенно с утра или при монотонной и скучной деятельности. Наверняка вам это знакомо.
В нижней части среднего мозга расположены красное ядро и черная субстанция – две структуры, которые тоже связаны с двигательной сферой. Красное ядро работает вместе с мозжечком и помогает, например, сгибать руки и ноги, когда мы куда-то бежим или идем. Черная субстанция реализует свои функции вместе с базальными ганглиями, во многом определяя общий уровень нашей двигательной активности. Более того, от нее зависят те положительные эмоции, которые мы испытываем, когда двигаемся. Если вам от рождения досталась активная черная субстанция, то вам, скорее всего, нравится двигаться: гулять, заниматься спортом, танцевать. Казалось бы, танец не несет с собой никакого полезного действия, а человек все равно танцует и радуется. Вот за это отвечает черная субстанция.
Но у нас в мозге есть и конкурирующая программа лени, которая говорит: «Не надо двигаться, давай экономить силы». Баланс радости движений и лени индивидуален и зависит от генов и гормонов. Для кого-то предложение пойти побегать в воскресенье в парке – это прекрасно, а кто-то проворчит: «Да ну тебя, мне и на диване хорошо». Но это уже область конкретных характеристик личности, которые во многом связаны в данном случае с черной субстанцией и с веществом-нейромедиатором – дофамином.
Промежуточный мозг – это прежде всего таламус и гипоталамус – верхняя и нижняя части этого отдела ЦНС. Размер каждого из них – около 4 сантиметров. Это очень важные структуры, и их тоже можно увидеть на рис. 2.1 в главе 2.
Таламус – это зона, которая прежде всего работает с сенсорными сигналами и отвечает за то, что мы называем вниманием. Если вы сосредоточились, например, на чьей-то лекции или рассказе об отпуске, это значит, что ваш таламус в основном пропускает слуховые сигналы. А если вдруг у вас зачесалась правая пятка и вы обратили внимание на нее, в этот момент таламус начал пропускать кожную чувствительность. При этом слуховая чувствительность отчасти тормозится, поскольку кора больших полушарий не может полностью обрабатывать все и сразу. Так что пока вы от души будете чесать пятку, подробности об экскурсии собеседника в развалины какой-то крепости вы пропустите мимо ушей (точнее, мимо высших слуховых центров височной области).
Таламус нам очень нужен, ведь кора больших полушарий не может одновременно видеть, слышать, осязать, обонять, вспоминать уже свой прошлый отпуск, а заодно рефлексировать над эмоциями, связанными с тем августом… Так же с ума сойти можно! Таламус – наш незаменимый секретарь, который помогает перераспределить вычислительные ресурсы коры больших полушарий и не перегружать «шефа», то есть нас, наши высшие центры, кучей дел одновременно.
Гипоталамус – важнейший центр биологических потребностей, эндокринной и вегетативной регуляции. Он следит за выделением гормонов и контролирует работу внутренних органов, например при стрессе. Именно он виноват в том, что при волнении у нас усиливается потоотделение и подскакивает давление. Здесь же, в гипоталамусе, находятся группы нейронов, которые занимаются задачами из сферы потребностей, мотиваций, эмоций. С гипоталамусом связывают голод, жажду, страх, агрессию, половое и родительское поведение. Это «большая шестерка» биологических потребностей, и каждой из них в нашей книге будет посвящена отдельная глава.
Кора больших полушарий делится на древнюю, старую и новую.
Древняя кора – обонятельная. Эволюционно она появилась раньше всего и была уже у рыб в те времена, когда жизнь на Земле еще не покинула воды морей и океанов. Получается, что большие полушария возникли, чтобы нюхать – и это природа посчитала первоочередной задачей: они ближе всего к носовой полости. У рыб кора в основном отвечает за обоняние, а у нас она задействует для этих целей лишь около 2 % своей «мощности». К древней коре относятся обонятельная луковица и некоторые области, которые располагаются на внутренней поверхности больших полушарий рядом с передней частью мозолистого тела.
По ходу эволюции кора больших полушарий постепенно начала заниматься и другими задачами: такое хитроумное «добро» можно приспособить и для иных целей. Поэтому уже на уровне амфибий и рептилий, когда позвоночные решили выбраться на сушу, в явной форме развилась другая – старая кора.
Старая кора – это прежде всего области кратковременной памяти. Конечно, и в океане есть что запоминать. Например, коралловые рыбы отлично знают свою территорию. Но на суше подобные задачи гораздо больше. Вот и выделилась старая кора. Главный из ее центров – гиппокамп – находится в глубине височной доли на дне особой «гиппокампальной» борозды (см. рис. 3.2 в главе 3).
Но основная часть (более 95 % нашей коры) – это новая кора, которая характерна для млекопитающих. К ней относятся сенсорные, двигательные и ассоциативные (высшие) зоны. При этом новая кора подразделяется на шесть долей. Четыре из них наверняка вам известны: лобная, теменная, затылочная и височная (рис. 1.3). Помимо них, выделяют еще островковую и лимбическую доли коры больших полушарий.
Посмотрим на всю эту конструкцию сбоку. Спереди располагается лобная доля. Ее границей служит центральная борозда, за которой – уже теменная область. Максимально заднее положение занимает затылочная доля. Ниже всего находится височная, которая отделена от остального мозга глубокой боковой бороздой. Дно этой борозды образует внушительное расширение – это и есть островковая доля. Наконец, лимбическая доля находится на внутренней поверхности полушарий. Лимбическая (от слова limb – «край, круг») область коры окружает место отхода полушарий от промежуточного мозга. В состав этой доли часто включают обонятельную (древнюю) кору и центры кратковременной памяти (старая кора).

Рис. 1.3. Расположение и функции различных областей коры больших полушарий человека.
1 – затылочная кора, зрение;
2 – височная кора, слух;
3 – передняя часть теменной доли, чувствительность тела;
4 – островковая доля, вкус и равновесие;
5 – задняя часть лобной доли, двигательная кора;
6 – ассоциативная теменная кора;
7 – ассоциативная лобная кора
Довольно трудно запомнить весь этот набор. Будет проще, когда мы посмотрим, за что доли отвечают. Если схематично описать функции коры больших полушарий, то картина получится следующая.
Затылочная доля – зрительная. Наша «видеокарта» находится в задней части головы. Поэтому если сильно стукнуть по затылку, из глаз посыплются искры – возникает зрительная иллюзия, ведь при ударе невольно стимулируется непосредственно затылочная кора.
Височная доля – слуховая кора, и это запомнить легко: уши по бокам, висок рядом.
Передняя часть теменной доли идет от макушки вниз. Это зона чувствительности тела – кожной, болевой, мышечной. Нащупайте у себя темечко – отсюда и название – теменная доля.
Островковая доля – центр вкуса, а также центр вестибулярной чувствительности.
Задняя часть лобной доли – двигательная кора. Это зона, которая реализует новые (произвольные) движения, когда мы только учимся ездить на скейте или танцевать сальсу. Именно ориентируясь на двигательную кору, мозжечок запоминает и автоматизирует наши двигательные навыки.
Как работает мозг?
Ассоциативную теменную кору окружают основные сенсорные центры, отвечающие за все ощущения, которые мы собираем из окружающей среды: что мы видим, слышим, какие прикосновения чувствуем, вкусный ли у нас обед. Сенсорная информация, после того как она обработана, сбрасывается в ассоциативную теменную кору. И в этой зоне возникает то, что в нейропсихологии называют целостный сенсорный образ внешнего мира. Благодаря ассоциативной теменной коре мы одновременно видим, слышим, осязаем. Мы же не перескакиваем со зрительного канала на слуховой, а потом на осязательный. Тогда бы мы никак не могли есть пиццу под сериал. Но, к великому счастью, мы воспринимаем все одновременно.
В ассоциативной теменной коре располагаются нейроны, которые способны работать одномоментно с различными органами чувств. Именно на базе этих нейронов у человека возникают речевые центры. Потому что речь, слова – все это подразумевает наличие нервных клеток, которые взаимодействуют единовременно с несколькими сенсорными системами.
Например, мы задались целью купить стол. Высматриваем его в мебельном магазине – работает зрение, говорим продавцу: «Нужен стол» – работает слух. Объединяют зрительный и слуховой сигнал именно эти нервные клетки. Поэтому у нас с вами в ассоциативной теменной коре находятся еще центры речи и центры мышления. Получается, что этой зоной мы думаем.
Не менее важна ассоциативная лобная кора. Размышлять и мечтать мы можем о чем угодно, и это прекрасно. Но важно то, как мы в конце концов станем действовать. За наше поведение, за выбор программы, принятие решения как раз и отвечает ассоциативная лобная кора. Желательно, чтобы мы запускали именно полезное поведение, которое было бы нам на руку – удовлетворяло нужды организма, помогало справляться с трудностями. Поэтому именно в лобную ассоциативную кору приходит информация о потребностях. Гипоталамус посылает сигнал прежде всего туда. К примеру: «Я голодный», «Хочу размножаться», «Мне страшно здесь, может быть, пора отсюда делать ноги?».
Ассоциативная лобная кора, приняв информацию о потребностях, обращается к центрам памяти, к индивидуальному опыту и к ассоциативной теменной коре с вопросом: «Что важного творится в окружающем мире?». Получив эти три информационных потока, ассоциативная лобная кора принимает решение о запуске поведения. И если вам стало страшновато в беспроглядной лесной чаще (ну, мало ли как вы там оказались), то вы решаете уйти. Для этого надо встать с пенька, начать передвигать ноги и перейти в какое-то более комфортное пространство. Сигнал из ассоциативной лобной коры уйдет в двигательную кору, благо она совсем рядом – в задней части лобной доли, а та, в свою очередь, даст сигнал мозжечку и спинному мозгу. И мы начнем шевелить руками, ногами, что-то делать и выбираться уже из этой глуши.
На рис. 1.3 в упрощенном виде изображены основные информационные потоки, которые распространяются по нашей коре больших полушарий, когда мы что-то делаем. А мы практически все время совершаем те или иные действия.
Потребности в рамках этой системы играют очень важную запускающую роль, их наличие часто служит стимулом для старта поведения. А без потребностей так и будет мозг и, соответственно, тело вяло лежать на месте и ничего не предпринимать. «Что воля, что неволя – все равно».