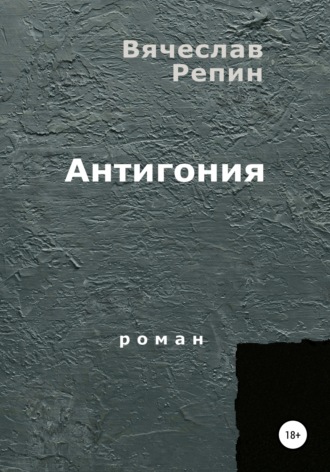
Вячеслав Борисович Репин
Антигония
Вместо предисловия
Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…
С таких неожиданных нот началось мое знакомство с Вильсоном Гринфилдом, известным в Америке литературным критиком. Годы назад В. Гринфилд разыскал меня в Париже, чтобы поговорить о Джоне Хэддле, моем покойном друге. Дома, в Бостоне, американец работал над биографией своего прославившегося соотечественника и не мог обойтись без личных свидетельств о жизни и творчестве Хэддла. Это и побудило критика разыскивать его вчерашних друзей и знакомых.
Биограф планировал написать что-то весомое. Правдивый рассказ о жизни творческого человека во всей ее полноте, без прикрас, без льстивых упрощений – такая книга могла бы стать подарком для почитателей творчества Хэддла. Что говорить о единомышленниках всех мастей? Их было немало, и они первыми поддерживали начинание, всячески поощряли биографа. Издание могло привлечь к наследию Хэддла и нового читателя, а может быть даже стать событием литературной жизни. Ведь если потрудиться, из биографии мог получиться настоящий портрет пишущего человека наших дней. Таков был замысел.
Гринфилд переживал по поводу возможной реакции родственников писателя. Труднее всего бывает угодить именно родне, семейная жизнь не терпит публичности. Но он тешил себя надеждой, что сумеет выдержать такт, что обид не будет.
По телефону Гринфилд уверял меня, что принципиальный подход к делу, ставка на добросовестность не позволяют ему обойти стороной некоторые «деликатные факты». Раз уж упор делается на сравнительный анализ художественного вымысла писателя с реальными фактами из его жизни, излагать, мол, предстоит «всё как есть». Именно в этом я и должен был ему помочь, ради этого он ко мне и обратился.
Просьба американца ставила меня в затруднительное положение. На первый взгляд, всё вроде бы просто. Но мне пришлось задуматься о старом. Мои отношения с Джоном Хэддлом никогда не были гладкими, простыми. Разногласия между нами бывали столь резкими, непреодолимыми, что мы переставали общаться, теряли друг друга из виду. За годы случилось много такого, что оставалось для меня дилеммой по сей день. Как всё это рассказать и объяснить постороннему человеку? Нужно ли вообще делиться всем, когда речь идет о многолетних отношениях с другом? Да и вообще, не слишком ли шапочным выглядело новое знакомство?
Единственной гарантией американца были его хорошие отношения с женой покойного, и он не переставал поигрывать на этих струнах. Но что конкретно это гарантирует, спрашивал я себя? В искренность затеи верилось с трудом. Деловая хватка критика, некоторая слепота, даже немного наигранная, как и сама уверенность, что былые друзья Джона должны на ура принимать возможность рассказать о друге что-нибудь невероятное, – всё вместе это выглядело неясным, неубедительным.
И всё же поначалу я решил отбросить в сторону все предубеждения. В конце концов, публикация биографии Джона могла привнести некоторую ясность. Это могло положить конец кривотолкам вокруг его имени, а возможно даже поспособствовать восстановлению правды, говорил я себе, со дня смерти Хэддла изрядно поруганной. К лицу ли отсиживаться в стороне?
Разговор был перенесен ко мне домой. Объяснения опять получились долгими и ничего существенного к сказанному уже не добавляли. Как только Гринфилд переступил порог моей квартиры, мы почему-то перешли на французский. Американец изъяснялся на чистом, книжном языке. Языком Рабле и Флобера, столь почитаемых мною в те годы, он владел лучше меня. Это казалось удивительным, ведь я столько лет прожил во Франции. Но мы говорили, по сути, на разных языках, по-настоящему я это понял уже позднее.
– Если откровенно, сложность для меня в другом. Зачем ломать комедию? Да нет, я прекрасно понимаю Джона. Понимаю, чего он хотел… Только вы тоже должны понять. В Америке мы очень ценим… как бы это сказать… обратную связь. На этом построена наша культура. По природе своей американцы люди рациональные. Ясность нам нужна как воздух. Мы не можем без развязки. С этим ничего не поделаешь. А Джон под конец своим маскарадом, своим лавированием… ― Гринфилд развел руками и чуть было не пролил на себя стакан с водой, который попросил ему принести. ― Когда человек впитывает с пеленок этот душок, этот менталитет, когда чувство обратной связи передается ему с молоком матери, он впадает в экстаз… поверьте, я не преувеличиваю… стоит ему оказаться свидетелем разоблачения. Стоит вывести перед ним на чистую воду какого-нибудь прохвоста, махинатора. – Гость отпил глоток воды и проиллюстрировал свою мысль: – Ну допустим, это происходит в зале суда, представьте себе такую картину… Это и есть обратная связь. Джон же плевать хотел на всё. Вот он всех и довел. Отсюда и непонимание, которое его окружало…
Розоволицый, пышущий здоровьем и благополучием, Гринфилд уютно поерзывал на моем диванчике, прихлебывал минеральную воду, поводил стаканом из стороны в сторону, а заодно, словно следователь, нагрянувший в гости к подозреваемому, краем глаза изучал обстановку моей парижской квартиры.
– Всю жизнь проноситься с бредовой идеей! Да ведь это не лезет ни в какие ворота! – не переставал гость тормошить меня. – В американской литературе, куда ни сунься, везде уже кто-то наследил. Вы скажете, а-а, вот здесь-то вы и сплоховали. Вот где ваша немощь. Всё уже было. Нет ничего нового под солнцем… Да, вы будете сто раз правы! Отнимать у людей право на неведение, пытаться им внушить что-то такое, чего они не хотят знать и не хотят слышать ― это значит совершать насилие над их волей, лишать их права выбора! Ведь так?
Я продолжал отмалчиваться. Гринфилд продолжал вить свою паутину:
– Что ж, тут я с вами согласен. Но вопрос всё же напрашивается: а что мы, собственно, понимаем под «неведением»? Верим ли мы в существование абсолютной истины? Смею утверждать, что в это всё и упирается. На этом держится – всё. И не только тот мир, который я вам описываю. Весь остальной мир – ничуть не меньше. Ведь что такое истина? Она или есть, или нет ее вообще. Истина единична. Да к тому же очень сильно отличается от правды. Вы понимаете меня? Не согласны?
Мне так и хотелось спросить гостя в лоб, кого он решил вывести на чистую воду, кого он имеет в виду, размахиваясь такими словами, как «истина», «махинатор»? Не заговаривает ли он мне зубы? Но что-то мне подсказывало, что лучше дать человеку высказаться до конца.
Я принес гостю всю бутылку «эвьяна», уселся на прежнее место и ждал, чем закончится монолог.
– Так вот, мне кажется, что большинство просчиталось. Большинство тех, кто писал о Джоне… Ну уже в конце… Народ взялся обгладывать кость, которую ему подбросили… Нет-нет, Хэддла я прекрасно понимаю, повторяю. Окажись я на его месте, я бы сделал то же самое. Кто-то же должен преподнести урок губошлепам. Не могут же люди безнаказанно нести всякую чушь… Кстати, хотел спросить вас… Вы «Жизнь и смерть Джона Ху» читали?
Гринфилд уставил на меня испытующий взгляд.
– Читал. А вы? ― ответил я вопросом.
– Как вам сказать… Да, мне тоже выпала эта честь. Или привилегия? Что ни говори, тут нам с вами повезло. Пол-Америки умирает от зависти… ― Американец опять тянул резину. ― Да нет, без шуток. Это же надо отмочить такой номер! Выпустить книгу за свой счет, когда любой издатель дрался бы за нее, отдал бы за права последние штаны. Тираж – сами знаете, раз, два и обчелся, ― продолжал Гринфилд пенять непонятно на кого. ― А запрет на переиздание! Такого номера еще никто не выкидывал. Просто и наповал. Если не ошибаюсь, вы с Джоном в Москве познакомились?
Гринфилд преувеличивал. За всю историю печатного станка вряд ли кто-то сталкивался с такой ситуацией, чтобы издатель, живший с дохода от книг, отдал бы последнее ради приобретения прав на издание. Книгоиздание – профессия людей практичных. Однако мой гость знал, чего добивается. Опыт литературоведа, промышлявшего в безбрежной акватории мировой литературы, где все границы условны, если вообще когда-либо существовали, чего-то наверное да стоит.
Речь шла о последнем романе Хэддла, который мой друг выпустил на собственные средства. При этом на все будущие переиздания Хэддл наложил запрет. С правовой точки зрения ситуация выглядела странной, даже немного абсурдной. История наделала немало шума. Да и случилось это уже незадолго до кончины Хэддла, что прибавляло всему трагизма.
Кое-кто воспринял решение Джона – запрет на публикацию – как причуду. По собственному желанию, из непонятных принципов приговорить к забвению свое самое зрелое произведение, к тому же еще и самое автобиографичное, – это с трудом поддавалось пониманию. Тем более что Хэддл подавал таким образом повод для самых нелепых разнотолков на свой счет, которых и так было хоть отбавляй и от которых страдал больше всего он сам. Но нужно, мол, уметь прощать обреченному собрату по перу его неадекватное отношение к миру, к читателю и вообще.., – так скажет снисходительный критик. Кто, мол, имеет право у всех на глазах копаться в душе у человека, когда тот вплотную подступает к своему последнему порогу? Кто может его понять?
Как бы то ни было, обладать небольшим аккуратно изданным фолиантом, который вышел очень ограниченным тиражом, но в полноценной офсетной версии, суждено было только близким, по-настоящему близким Хэддлу людям. Такова была последняя воля автора.
Некоторую смуту во мне вызывала не только двусмысленная ситуация, в которой я оказывался. Ведь я выглядел интриганом, недаром же я продолжал отмалчиваться, как и в день переговоров у меня дома. Но я действительно не знал, что лучше, что хуже. Настораживал еще и факт, что гость упрямо обходит молчанием позицию Анны Хэддл, хотя знакомством с ней сначала прикрывался. Как Анна относится к происходящему? Разве не за ней последнее слово? Ведь ей как никому была известна подноготная наших с Джоном литературных отношений. И даже дружеские, просто человеческие отношения сохранялись только благодаря ей. Не будь ее, мы бы с Джоном сто раз рассорились. Анна вполне могла бы предоставить Гринфилду все нужные ему сведения. Но получалось, что она этого не сделала. Впрочем, с первой же минуты меня не оставляло чувство, что американец принимает мое благодушие за мягкотелость. Эту ошибку почти всегда совершают люди недалекие…
По истечении некоторого времени я отправил Гринфилду письмо, в котором предупреждал его, что собираюсь «огласить» некоторые факты из жизни Хэддла. Сведения могли пошатнуть его представления о творческой алхимии Джона, о некоторых прообразах его персонажей, и это конечно интересовало Гринфилда в первую очередь. Дело же было в том, что одно университетское ревю, в свое время пригревшее на своих страницах рассказы Хэддла, обратилось ко мне с просьбой написать о Джоне заметку, причем в свободной форме, не сковывая себя расхожими мнениями, не обращая внимание на то, что говорят другие. Меньше всего мне хотелось досаждать самому Гринфилду, раз уж он считал себя обладателем прав на биографическое наследие Хэддла-писателя. И уж тем более далек я был от мысли завладеть пальмой первенства, вырвать ее из рук биографа, в чем он, конечно же, сразу меня заподозрил.
Об этом свидетельствовала уже сама молниеносная реакция американца. Электронная почта из Бостона пришла в тот же вечер. Гринфилд просил приостановить «несуразную затею», дождаться его приезда. Любой необдуманный шаг мог нанести «удар по совместным планам». Раньше чем через две недели он приехать не мог. Дела, обязанности… Сквозь тон просачивалась то ли паника, то ли и вправду ревность. А еще день спустя, с новым напором, благо больше не апеллируя к «совместным планам», Гринфилд на все лады пытался растолковать мне по телефону, что Америка ― это вам, видите ли, не Париж и не Европа. Всё там, дескать, наоборот. И нередко «шиворот-навыворот». Публикация с опровержениями, подпиши ее «иностранец» вроде меня, к тому же появись она на страницах издания, которое не имеет веса в «нужных» кругах, – это могло скомпрометировать все дальнейшие шаги. С другой стороны, если мой интерес к делу упирается в вознаграждение, которое мне, скорее всего, сулили, ― а для человека пишущего это вопрос вполне здравый, ― он, Гринфилд, тоже, мол, не ханжа и тоже был готов обсуждать эту тему.
– Сколько? ― спросил я, не устояв перед искушением услышать, какую цену дают за сплетни о Джоне Хэддле.
– Три тысячи.
Я чуть было не спросил, в какой валюте.
– Долларов, ― поспешил уточнить Гринфилд.
Если мне действительно пообещали гонорар, то он, Гринфилд, согласись я пойти ему навстречу, готов был его «компенсировать». Причем не с бесхозного оффшорного счета, как принято где-то там, в странах, забытых Богом, а из собственного кармана… Еще минута терпения и молчания ― и мне уже предлагалось четыре тысячи, «но это предел возможного». Ведь из того же кармана предстояло раскошелиться на дорогу до Парижа, на проживание… Гринфилд опять заговаривал мне зубы. Сколько же сам он собирается заработать, спрашивал я себя? С каких это пор на биографии писателя, а тем более современного, вообще зарабатывают деньги? Похожие прецеденты уже были. Вторичность начинала входить в моду. Но отдавало это чем-то хитроумным, мутноватым. Я относился к этому как к недоразумению, продиктованному эпохой, ее бесплодием, как это бывает в переходные периоды. Мир менялся, это-то понимали все. И не всем удавалось беречь честь смолоду…
И я решил не откладывать дело в долгий ящик. Ясного намерения пойти наперекор гринфилдовским планам у меня не было и в этот момент. Но за пару дней я набросал текст статьи, о которой просил меня главный редактор университетского ревю. А в самый последний момент, перед тем, как отправить материал, я всё же задумался над целью того, что делаю. Глас вопиющего в пустыне – вот и всё, чем могли обернуться мои усилия. Только безнадежно наивный человек мог надеяться, что его поймут, услышат. Всевидящие толкователи-литературоведы, поденные рецензенты и правдоискатели с филологических кафедр, которые тем только и промышляют, что высасывают из пальца свои диссертации, а по сути просто обсасывают кости сгинувших на тот свет признанных и непризнанных гениев (удивительно, что никто еще не додумался пополнить инвентарь учебно-наглядных пособий настоящим скелетом писателя, очищенным от требухи и вываренным добела), ― весь этот отсев из графоманов, не способных противостоять соблазнам карьеры с твердым окладом, привык и не к таким оплеухам. Я понимал, что безнаказанность мне гарантирована. Но истина вряд ли восторжествует. В ней никто не нуждался. Такое болото раскачать невозможно.
А если так, то не проще ли поставить точку? Но настоящую. А это значит сесть за письменный стол, да изложить «всё как есть», с максимальной обстоятельностью, чтобы другим было неповадно, чтобы никому не пришлось высасывать биографию Джона из пальца. Это был единственный способ оградить имя Хэддла от посягательств.
Именно этому замыслу и отвечает нижеследующее повествование. Оно посвящено не столько развенчиванию нелепого мифа, который успели раздуть на пустом месте особо рьяные американские литературоведы. На этих страницах речь пойдет не столько о необычной писательской судьбе Джона Хэддла, хотя в ней и есть что-то аллегорическое, наглядно воплотившее в себе парадоксы художественного творчества, с которыми сталкивается любой настоящий художник. Прежде всего, это живое свидетельство о встрече между людьми и культурами ― очень разными и по-прежнему отдаленными друг от друга на сотни тысяч лье. Но что не вызывает сомнений, взаимоотношения между этими культурами, их разный подход к жизни, видимо, еще долго будут предопределять настроения умов. А заодно и судьбы мира сего…
часть первая
Зона
Тысяча девятьсот восемьдесят шестой год ― нескончаемый и самый черный за всю мою жизнь ― близился к концу. Во Франции я жил второй год, но всё еще не мог привыкнуть к новому миру.
Умеренность и самоограничение, здравый аскетизм, который, как известно, бодрит и не дает расхолаживаться, казались мне необходимыми условиями выживания в новой среде. А если при этом не отказывать себе в минимальных удобствах, в комфорте, что необходимо для поддержания в себе чувства собственного достоинства, то достижение определенного равновесия казалось не таким уж иллюзорным. Аскетизм вообще на редкость действенное средство для смягчения обостренного мироощущения. И я страдал этим недугом, наверное, как и все нормальные люди. Хотя мне и казалось, что это что-то личное, уникальное… Запросы были, в конце концов, небольшие. Но и те удовлетворить не удавалось.
В начале года, в январе, умерла моя мать, жившая в подмосковном Томилине. Я не смог поехать на похороны. Мой паспорт, да и сам административный статус, не позволяли свободных перемещений. Холодная война еще не закончилась. А постоянные документы на жительство, разрешения оформлялись до бесконечности медленно. С исчезновением матери ― я даже не мог назвать такой финал «уходом из жизни» ― я оказался и сиротой, и бездомным. Умом я, разумеется, понимал, что для того люди и становятся эмигрантами, чтобы раз и навсегда покончить с подобными сантиментами, что мне предстоит всё строить с нуля. Но сердце отказывалось смириться с этой участью. Никогда я не чувствовал себя столь отрезанным от своего прошлого. Никогда я не понимал с такой ясностью, что жить без прошлого невозможно.
Черная полоса с этого дня становилась сплошной, непроглядной. В феврале пришло письмо от знакомых, которые извещали меня о том, что друг детства угорел на даче от печного дыма. В те же дни ― в Париж как раз нагрянула весна и стояли райские солнечные дни ― я умудрился рассориться с близкими друзьями, покровительством которых и пользовался, и дорожил. Причиной ссоры послужила нелепейшая история. Муж-француз ни с того ни с сего приревновал меня к своей русской половине. Многолетние дружеские отношения с виновницей заварившегося водевиля связывали нас еще с Москвы. Но это оказалось не гарантией, чем я себя тешил, а дополнительным поводом для подозрений на мой счет. Позднее выяснилось, что приятельница моя действительно отплатила мужу неверностью. Только виновником падения был человек, тоже из бывших «советских» граждан, с которым я даже не был знаком.
В минуту неуклюжих объяснений с мужем, закончившихся безобразной сценой, я не мог, разумеется, предположить, что вижу его в последний раз. В июне месяце семейство отправилось на отдых в Верхнюю Савойю. Безутешный ревнивец, преданный семье до гроба, в этом году решивший обойтись без отпуска, всё же надумал отвезти своих в Альпы на машине: пару дней отдыха – это лучше, чем ничего. По пути домой, возвращаясь в Париж уже без семьи, он разбился. На полном ходу машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик, доставлявший крупный рогатый скот на бойню…
В том же июне месяце, уже к концу, в посольстве мне отказали в продлении паспорта. Паспорт оказался окончательно просрочен, фактически перестал быть действительным. Вряд ли это можно было приравнивать к утрате гражданства. Такой радикальный метод усечения крыльев применялся уже редко. Однако сделать так, чтобы документы, дававшие право на пересечение границ, оказались негодными ― это не требовало от чиновников большой изобретательности или применения громких административных мер. Зато каким действенным оказывалось средство, это я уже успел намотать себе на ус. Как безотказно оно остепеняло отщепенцев вроде меня, умудрившихся сдуть за границу на недостижимое для властей расстояние. Обретенная свобода – не видимость ли это? Даже вдали от дома я продолжал мозолить глаза всем своим.
Цвета запекшейся крови, попахивающий кирзой «основной документ» с неподдающимися подделке водяными знаками, превратился в именной волчий билет. Но разве не являлся он им до этого? Душа не лежала к пессимистическим выводам. Разве можно чернить весь мир только за то, что лично тебе в чем-то не повезло? Да и не может здравомыслящий человек не понимать, что любой негативный опыт по-своему всегда ограничен и не пригоден для обобщений.
Французское гражданство пока лишь оформлялось. И мне приходилось по-прежнему отираться в очередях префектуры перед любой поездкой за пределы Франции, ― не в Москву, а даже в соседние Швейцарию или Германию. Получение разрешения на выезд и на обратный въезд ― для эмигранта, конечно, святая обязанность, даже если она не предусмотрена ни одним «основным» законом. Данное несоответствие в лишний раз напоминало о том, что «основным» в нашем мире являются не законы и не «свобода выбора», а что-то другое. Все эти понятия являются частью всё того же нагромождения, которое люди воздвигли, скорее всего, вслепую, едва ли понимая, зачем они это делают. Есть в мире, безусловно, понятия попроще и поважнее, и они намного нужнее простому смертному…
Аполитичность, как известно, сродни невинности. Но когда она граничит с наивностью, это действует на нервы всем. Компромисс и вытекающее из него чувство вины, принесение себя в жертву на алтарь своей страны, «служение своему народу», «преданность родине» и т. д. ― в общественном сознании эти категории заслужили себе почетное место повсюду. Эмигрант в этом смысле ― законченный надувала, потому что он как никто зависим от этих установок, но вынужден делать вид, что на него они не распространяются. Отчасти поэтому даже в те «холодные» годы эмигранту мало кто верил. Я не мог этого не понимать. И лучше было сразу смириться. Впрочем, не только с этим…
К началу летних отпусков я остался без всего, даже без работы. За достойное вознаграждение я занимался выкраиванием из русской классики наглядных аналогий, которые в виде иллюстраций, объясняющих грамматические правила, предполагалось использовать при издании целой серии учебных пособий. Подготовительную работу над изданием предполагалось вести около года. Ангажемент выглядел зыбким, временным, но на нем худо-бедно держалось мое благополучие, и я даже успел возгордиться своим скромным статусом, уж слишком респектабельной была псевдолитературность этой работы и моего нового образа жизни. И вдруг всё лопнуло. Издатель отказался от грандиозных планов. Команду распустили, пустили по миру.
Начинать предстояло с ноля. Но я уже не обольщался. Теперь я с ходу отметал сомнительные перспективы, нескончаемые occasions du jour, назойливо плодящиеся в сознании любого трудоспособного гражданина, по какой бы причине он ни сел в калошу. Усвоив урок, я понимал, что временная работа, а тем более случайная, не изменит мою жизнь к лучшему. Понемногу до меня начинало доходить главное: для пишущего человека скромное и незаметное прозябание имеет свои положительные стороны. Оно дает возможность наблюдать за жизнью как бы с изнанки, а под этим углом всё гораздо виднее. К тому же изнуряющая душу «незанятость» заставляет сесть за письменный стол, не испытывая угрызений совести за свою «безынициативность», бездействие или безответственность перед обществом, ведь всё равно нет возможности заняться чем-то более дельным…
В городе стояла жара. В обеденный час рабочие из всевозможных мастерских, а в те годы дворы буквально ими кишели, разгуливали по улице обнаженными по пояс. Как было не позавидовать их свободе? Как было не пытаться представить себя в их спецовке, а то и по пояс голым? Средь бела дня, посреди улицы. Как неистово хотелось очутиться в шкуре этих простых здоровых парней. Хотя бы на миг! Сердце мое изнывало от зависти при одной мысли, что кто-то одарил это простодушное мужичье возможностью зарабатывать на хлеб в поте лица, обыкновенным физическим трудом, не ломая голову над вечными вопросами, от которых иногда ум заходит за разум.
Заниматься скрупулезным вышиванием фраз из мыслей. Упражняться в выжимании из себя всего самого сокровенного, незапятнанного и накипевшего. И только для того чтобы какой-нибудь воображаемый любитель книжного досуга, праздный воздыхатель по иллюзорным мирам, укладываясь в постель, повалял в руках полукилограммовый фолиант и, не набравшись смелости погрузиться в чтение, не осмелившись признаться себе, что раскошелился непонятно на что, ― чтобы этот рядовой пенкосниматель издал сочувствующий вздох: «Да-а, бывает же людям тошно…»
Что было предпринять? Как вырваться из тупика? Наняться продавцом в метро, торговать в переходах колумбийскими бананами? Покапайте, дамы и господа! Десять штук за десять франков! Одиннадцатый бесплатно, в придачу! Дать в газету объявление, что имярек сочтет за честь выгуливать чужих собак? График работы ― по договоренности. Правила хорошего тона ― превыше всего. Пакетики для сбора испражнений, чтобы ничего не оставалось на тротуаре, в наличии…
Джон Хэддл, парижский американец, был единственным, кто мог оценить мое положение. Оба мы, Джон и я, оказались в тупике. Каждый по-своему. Но много было общего. В круговорот Парижа оба мы попали случайно. Судьба нас привела сюда разными дорогами. Оба мы порвали с родной стихией. А итог вырисовывался схожий. И чем больше проглядывало аналогий, тем всё меньше верилось в свою исключительность и еще меньше в избранность.
Всё упиралось в какое-то общее правило, которому нас не научили. Хотя всё то же самое до нас прожили многие другие люди. И всё это в середине восьмидесятых! В те незапамятные времена, когда граждане западноевропейских стран, пользуясь экономическим ростом в своих странах, только тем и занимались, что ели да пили, преумножали потомство да недвижимость, при этом продолжая верить, причем верить свято, что мир можно преобразить одним всеобщим голосованием и что он вообще не так-то плох, если разобраться, и не так безнадежен, как любят поучать всякие умники. Немногие ломали себе голову над тем, что делать, с чего начинать, где и как жить. Повсюду было во сто крат хуже…
Славист по профессии ― уже в те годы редкий род занятий для американца, который не собирается трубить до пенсии под крылом у Пентагона, ― Хэддл вдруг бросил русский язык и преподавание. Ему тоже больше не хотелось размениваться. Что примечательно, круг общения, и его, и мой, никак не сочетался с нашими упадническими настроениями. В этом было, пожалуй, спасение – от себя самих. А в то же время прозаическая и трижды нелитературная среда – это как правило бесценный клад для самой литературы. Жизнь здесь бьет ключом, как нигде. И мы своего не упускали. В среде простых людей, среди обывателей, оба мы чувствовали себя, как рыба в воде – рыбы необыкновенные, экзотические, по недоразумению выпущенные из аквариума в настоящий водоем, с его естественным циклом воспроизведения жизни.
Чему и удивляться? Одним приходится всю жизнь прилагать неимоверные усилия, чтобы реализовать себя, чтобы воплотить в жизнь «заветные мечты». Другим отпущено жить просто так, по течению, в нирване самопогружения или в безразличии ко всему на свете. Мир же, вечный и необъятный мир, сколько бы он ни развивался, ни процветал и ни приходил бы опять в упадок, преспокойно продолжает существовать из века в век, подчиняясь простым, допотопным законам, возникшим, по-видимому, вместе с ним, в одно и то же время.
Слабого пожирает сильный. Но сильный, как и всё живое, беспомощен перед болезнями, перед старением, перед самим ходом времени. Сильный может пострадать от самого малого, может сдохнуть, например, обожравшись несъедобных мальков. Таких, как я или Хэддл. Недаром же аквариумных! Мальки же жрут и мужают, чтобы однажды, в свой черед, стать такими же хищниками и по примеру своих предшественников охотиться на всякую мелюзгу. При этом места должно хватить на всех. Il faut tout pout faire un monde1, – так шутят иногда французы. Такова архитектура всего мироздания.
В какой-то момент у нас с Хэддлом даже объявились завистники. В сиротской борьбе за существование некоторым людям мерещится подвижничество, приверженность невесть каким идеалам. Не каждый смертный, мол, и удостаивается таких привилегий. Смысл жизни, эту заветную невидаль, вы, мол, ребята, подобрали где-то прямо на дороге, да тут же присвоили себе, припрятали чужое добро от глаз подальше, даже не поинтересовавшись, нет ли на него других претендентов…
Благодаря писательской стипендии, выхлопотанной дома, в Америке, Хэддл провел в Париже больше года. Сроки вышли. Пора было побеспокоиться о том, как жить дальше и, главное, на какие средства. Вернуться домой и начинать с нуля, на голом месте, с поисков работы? На первых порах житейская неустроенность, серость, рутина были гарантированы. Но разве не от этого Хэддл недавно бежал в Париж? Он подумывал о новой отсрочке. Однако это тоже подразумевало поиски всё тех же средств к существованию. Он надеялся протянуть на гонорары со статей, которые писал для американских газет. Но конъюнктура как назло стала неблагоприятной. Ветер дул то влево, то вправо. Статьи Хэддла брали теперь с трудом. От него требовали продукции более актуальной. Поменьше «литературщины». Побольше достоверности и «голой правды»…
«Правда», раз уж она «голая», скорее, нуждается в облачении, чтобы прикрыть свою срамоту, чем в удостоверении личности, ― изгалялся Хэддл над своими работодателями в одной из проданных им же статей, посвященной влиянию американской субкультуры на европейскую.
Работодатели из «Вашингтон пост», народ необидчивый, интеллектуально подкованный, да и относились все к Хэддлу хорошо, по-дружески, как он уверял, предлагали ему подзаработать на чем-нибудь «полухудожественном, но остросюжетном». Хэддлу предлагалось съездить в Албанию, написать что-нибудь животрепещущее о том, что творится в этом тихом омуте, о котором в то время и думать все позабыли. Или отправиться в Сибирь. Авось в Москве махнули рукой на старое и не будут чинить препятствий с получением виз. И уже оттуда – в Среднюю Азию, как раз начинавшую мечтать о лучшей жизни, о новом ханстве с кисельными берегами, но еще совсем советскую, еще «нашу» в доску.
Редакция газеты брала на себя организационные хлопоты, Хэддлу сулили хороший гонорар. Я же сулил Джону целый бригадный подряд помощников на месте, которые откопали бы ему такой материал, что в редакции «Вашингтон пост» все бы попадали со своих насиженных канцелярских кресел. Среди моих давних знакомых даже был родственник Рашидова, большого местного начальника, так и не выпутавшегося из афер с узбекским хлопком…
Хэддл стоически противостоял всем соблазнам. Дальние края и безоблачные перспективы к писательству в чистом виде не имеют отношения. Еще меньше, чем преподавание, на котором он отважился поставить крест. Жертв было принесено предостаточно. Отступать было поздно. И он оставался на распутье…


