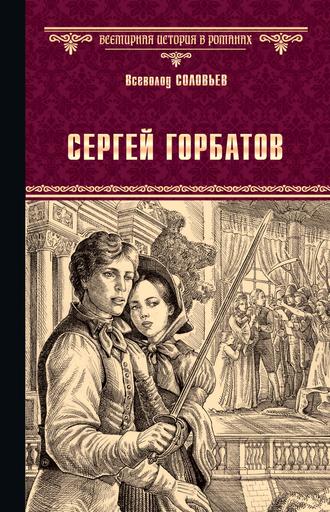
Всеволод Соловьев
Сергей Горбатов
VII. Воспитание
Сергею было тогда семнадцать лет, и, несмотря на то что в нем еще оставалось много детского, он уже умел задумываться и интересоваться многими серьезными вопросами.
Кругом, в помещичьих богатых домах, велась безобразная, развратная жизнь. Многочисленная челядь, десятки молодых девушек – бессловесных рабынь господской воли, примеры старших, которые не находили нужным от кого-либо скрывать свои поступки и не видели в них ничего зазорного – все это действовало растлевающим образом на подраставшее поколение. Трудно было найти семнадцатилетнего барчонка, у которого не было бы всяких интрижек в девичьей, прикрываемых и направляемых каким-нибудь бессовестным папенькиным приживальщиком.
Но в доме Бориса Григорьевича заведен был иной порядок. Со времени его женитьбы что-то не слыхать было о его слабости к женщинам, а если даже и случалось с ним что-нибудь в этом роде, то, по крайней мере, домашние про то ничего не знали. В девичьи комнаты он никогда не заглядывал и глаз никогда не поднимал на красивых кружевниц, ткачих, сенных девушек и всяких прислужниц, которых немало было в Горбатовском под верховным началом Марьи Никитишны.
Сама Марья Никитишна была женщина строгой нравственности и пуще глаза берегла чистоту детей своих. Приживалки и приживальщики, наполнявшие дом, очень хорошо знали, что, несмотря на свою доброту, она ничего такого не потерпит и немедленно же обратится к мужу. Ну а с тем разговор короток. Если он находил кого себе не по нраву в доме или узнавал какую-нибудь историю, казавшуюся ему непристойной, он не дрался и не бранился, как многие, а только отдавал своему управителю приказание в двадцать четыре часа убрать из Горбатовского такого-то или такую-то, и это приказание, конечно, всегда с точностью исполнялось. О просьбах прощения, о возможности изменения раз данного хозяином приказания не могло быть и речи. Дом Горбатовых слыл монастырем, и если в этом монастыре водились какие грешки, то они очень ловко прятались, так что Сергей дожил до семнадцати лет если и не в полном неведении некоторых сторон жизни, то, во всяком случае, в чистоте совершенной.
Рено в Петербурге поражен был легкостью нравов русского общества. Его первый воспитанник даже и умер-то от того, что чересчур рано и неудержимо стал предаваться всем удовольствиям жизни. Потому, сразу разглядев Сергея, что было нетрудно, он радовался как ребенок, что ему выпадает на долю развить и направить не тронутую еще никаким пороком детскую натуру.
Он сумел с первого же дня приворожить к себе Сергея. Он начал с того, что отнесся к нему не как к ученику-мальчику, а как ко взрослому человеку, с которым ему нужно было подружиться ввиду будущей совместной жизни. Между воспитателем и воспитанником скоро установились самые искренние отношения. Сергей полюбил Рено от всего сердца, уважал его безгранично, открывал ему свою душу.
Более пяти лет прожил Рено у Горбатовых. В это время Сергей из милого, но все же довольно грубоватого и дикого мальчика превратился в серьезного, благовоспитанного юношу. Рено передал ему все свои познания, которые были хотя не особенно глубоки, но довольно разнообразны. Он составил ему интересную библиотеку, благо Борис Григорьевич никогда не отказывал ему выписывать книги. Все тогдашние светила науки – Лейбниц, Декарт, Ньютон, Палпе, Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо, д’Аламбер, Дидро – были прочтены Сергеем, и эти чтения сопровождались долгими беседами и объяснениями воспитателя. Кто не видал Сергея в эти годы, тому трудно было бы узнать его. Он резко отличался не только от своих сверстников-соседей, но даже от большинства столичной молодежи того времени. Страстно занявшийся его воспитанием и нежно полюбивший его Рено все меры употреблял для того, чтобы вылить его не только внутренне, но и наружно в ту форму, которая казалась ему идеальной – и он почти достиг своей цели.
Сергей производил, по крайней мере на первых порах, впечатление благовоспитанного и просвещенного француза. Французский язык сделался ему более родным, чем русский. Франция, Париж казались ему далекой родиной, мечты о которой временами стали его преследовать.
Рено был француз, истый француз со всеми недостатками и качествами этого народа, и потому он редко мог дойти до беспристрастия, до объективности. Несмотря на то что он добровольно порвал связи и с прежней своей жизнью, и с Парижем, что ему приходилось жить в России и воспитывать русского человека, он решительно не хотел близко ознакомиться с окружающим. Он очень мало интересовался новой страной, в которую кинула его судьба, новым народом, с которым он приходил в соприкосновение. Он уехал в Россию с ненавистью к Парижу, а очутившись в России, вдруг влюбился в этот покинутый Париж. Он выучил Сергея верить, что Париж – все, что только там истинная жизнь и что не знать Парижа – значит не жить.
Несмотря на всю любовь свою к воспитаннику, он забывал, что, воспитывая его французом, он оказывает ему плохую услугу; но он не мог иначе. Стремясь к созданию «хорошего человека», он мало-помалу отрывал Сергея от родной почвы, от прежних верований, навсегда уничтожил его связь и с окружающим. Скоро уроки и христианские наставления отца Павла потеряли для Сергея всякое значение. Запуганному, хотя далеко не глупому и искренно и православно веровавшему священнику трудно было бороться с влиянием красноречивого француза… Борьба даже и не начиналась, потому что Сергей не вступал в споры со своим законоучителем. Да и сами занятия с ним скоро прекратились. Сергей по-прежнему посещал церковь, говел и приобщался; но делал это только из жалости к матери, а главное, из страха и почтения к отцу, которых не мог и не хотел в нем уничтожить Рено. Он понимал, что, коснувшись отношений между отцом и сыном, он только причинит много горя своему милому Serg’y, а сам должен будет покинуть Горбатовское.
Он толковал ему: «Молодой человек должен готовиться к жизни, к той жизни, которую он будет проходить самостоятельно, на своих ногах. Но пока он еще находится в зависимости от других, то благоразумие заставляет его идти на некоторые уступки, впрочем, чисто внешние. Без этих уступок никогда не было бы спокойной семейной жизни, а одна только борьба старых, укоренившихся ошибок с новыми, более правильными взглядами. И, во всяком случае, для такой борьбы нужно укрепиться, чтобы не быть побежденным. Вся жизнь впереди, впереди и плодотворная борьба, а пока нужно только хорошенько работать над собою…»
Рено скрепя сердце вдавался в такие рассуждения. Он чувствовал, что портит ими прямую натуру Сергея, приучает его к скрытности, к слишком большому благоразумию. Но делать было нечего. И скоро всякие смущения забывались, являлось наслаждение успехами воспитанника. Рено слишком долго чувствовал себя одиноким во всем мире, теперь же у него оказалось второе «я», только в прекрасной оболочке свежести и молодости. Отрывая Сергея от всего прежнего, он этим самым связывал его неразрывно с собою, и кончилось тем, что они стали неразлучны, понимали только друг друга. Они вместе, во время уединенных прогулок по окрестностям Горбатовского, мечтали о правах свободного человечества, развивали идеи деизма, возмущались грубостью окружавших их нравов. Хотя горбатовский дом и представлял почти исключение для того времени, но все же и в нем случались резкие сцены. Высечет управитель провинившегося лакея, отшлепает старая экономка заленившуюся горничную – и Сергей уже чувствует себя возмущенным до глубины души и спешит к Рено. А тот возмущается с ним вместе и начинает толковать о правах человечества, изливает потоки адвокатского красноречия на тему о рабстве. А между тем во все эти пять лет воспитателю не пришло на мысль и самому вглядеться в жизнь русского раба и заинтересовать ею воспитанника. Тысячи душ крестьян, эта живая собственность Сергея Горбатова, как бы совсем не существовали для Рено. Деревня, избы – это было такое, что совсем не входило в его миросозерцание.
При редких и случайных столкновениях с русским крестьянином и его бытом Рено как-то смешно смущался, начинал чувствовать брезгливость и спешил скорее прочь. Он уважал бедность, он сам даже одно время испытывал ее, он понимал нищету, но тут было нечто совсем другое, не нищета, не бедность. Эти странные фигуры, говорившие на непонятном для него языке, представлялись ему совсем особенными существами.
«Mais ce ne sont pas des gens, – c’est une étrange espece d’animaux!» – нечаянно выразился он как-то после встречи с двумя добродушными и несколько подгулявшими ради праздника мужиками.
Так русский мужик и остался «странной породой животных» для молодого русского барина, уже наизусть изучившего корифеев французской философии.
VIII. Горе Тани
Княгиня Софья Семеновна Пересветова, вдова двоюродного брата Марьи Никитишны, и по родству и по близости соседства была издавна своим человеком в доме Горбатовых. Она овдовела довольно рано, сначала проживала то в Москве, то в Петербурге, но в последние годы перебралась в Знаменское и почти из него не выезжала.
Княгиню все знали за чересчур жестокую для того времени помещицу, что, впрочем, не мешало ей пользоваться почетом не только в Тамбове, но и в столичном обществе.
В первое время после смерти князя являлось немало претендентов на руку Софьи Семеновны: однако она всем отказывала: она любила свободу и пользовалась ею неограниченно, наверстывая то время, когда покойный муж ее, человек суровый и не особенно ее любивший, держал ее почти взаперти.
Теперь в Знаменском проживал привезенный княгинею из Петербурга какой-то Петр Фомич, еще молодой и красивый, по слухам, бывший архиерейский певчий.
Этот Петр Фомич заведовал всеми делами княгини и пользовался ее полным доверием. Всем посещавшим Знаменское сразу становилось ясно, что он не простой управитель, а имеет очень серьезные права на княгиню. Правда, в присутствии единственной своей дочери, Тани, она несколько следила за собою, но вообще стеснять себя находила излишним. Об ее отношении к Петру Фомичу толковали все. Кое-кто жалел Таню: боялись, как бы красавец-певчий в конце концов не пустил ее по миру. Впрочем, при более близком знакомстве с характером княгини этого ожидать было трудно. Она вряд ли была способна всецело подчиняться. Она хорошо помнила свою молодость и жизнь с суровым мужем, любила власть, любила деньги и, несмотря на всю свою слабость к Петру Фомичу, в тех случаях, когда он заходил слишком далеко, умела его осаживать.
Он катался как сыр в масле у нее в доме, конечно, немало денег упрятывал в заветную укладку, привинченную к полу под его кроватью, но княгиня всегда оставалась полноправной хозяйкой и собственницей своих богатых вотчин.
Таню она любила по-своему. Отличаясь жестокостью с крепостными, к ней относилась всегда снисходительно и предоставляла ей большую свободу. Когда Таня, случалось, захворает, что бывало, впрочем, очень редко, княгиня ни на шаг не отходила от ее постели, преувеличивала опасность, плакала и молилась. А когда Таня выздоравливала, она иногда начинала тяготиться ее присутствием. Поэтому можно себе представить, как она рада была близкому соседству Горбатовых и детской дружбе, завязавшейся между Таней и Еленой.
Марья Никитишна, хорошо знавшая семейную жизнь своей родственницы, очень любившая и жалевшая Таню, не раз обращалась к княгине с просьбой совсем оставить у них дочь.
«Пускай себе растут вместе, пускай вместе и учатся, так-то им обеим будет веселее!»
Княгиня сознавала, что во всех отношениях для Тани было бы лучше жить у Горбатовых, но из материнской ревности и самолюбия никак не решалась на это.
Впрочем, семь верст – невелико расстояние, и Таня почти ежедневно бывала у Горбатовых. Иногда оставалась там на несколько дней, а когда мать уезжала в Москву или в Петербург, то и совсем поселялась у них месяца на два, на три.
Елена была на два года моложе Тани и далеко уступала своей подруге во всех отношениях. Это была самая обыкновенная, послушная, добрая девочка – и только. Таня же развивалась быстро, обнаруживала таланты, превосходно пела, недурно рисовала самоучкой, была жива, всем интересовалась.
У Горбатовых ее любили все без исключения, но, кажется, больше всех любил ее Рено. Он называл ее «ma petite fee», заботился об ее образовании, старался занимать ее, так что возбуждал ревность в Сергее.
«Mais vous 1’aimez plus que moi!» – жаловался юноша, еще очень мало думавший о маленькой Тане.
Рено смеялся и отшучивался.
«Дурачок, он не понимает, что и люблю-то я ее ради него, я чувствую, что из них выйдет хорошая парочка», – думал мечтатель, но никогда не поверял своих планов воспитаннику.
А Таня между тем быстро вырастала и не по летам развивалась; ей еще не минуло и пятнадцати лет, а она была уже совсем сформировавшейся девушкой.
В последние годы в ее характере стала замечаться большая перемена. Она часто являлась в Горбатовское задумчивая и печальная. Ее спрашивали, что с ней, не случилось ли чего неприятного, но она никогда ни в чем не признавалась, старалась развеселиться, что ей почти всегда и удавалось очень скоро. В Горбатовском все было так хорошо, ее все так любили!
Никому не признавалась в своем горе Таня, а горе у нее было немалое.
То, что в детские годы казалось ей странным и непонятным, теперь открылось перед нею. Не будь Горбатовых, доброй и безобидной Марьи Никитишны, строгого, но всегда сдержанного Бориса Григорьевича, пламенного оратора за права человека Рено, может быть, у Тани не было бы горя, может быть, она не разглядела бы так рано очень многого. Но теперь вот разглядела.
Видя Таню смущенной и печальной и отчасти понимая причину этого, ее нередко упрашивали остаться на несколько дней в Горбатовском, но в таких случаях она никогда не соглашалась и скорее возвращалась домой: там у нее было дело, там ждала ее многочисленная дворня, которая находила в ней единственную свою заступницу.
Княгиня иногда вставала в дурном расположении духа, и тогда ей никто не мог угодить, и с раннего утри до позднего вечера происходила ее собственноручная расправа с провинившимися.
В такие дни ей будто доставляло особенное наслаждение исколотить, оттрепать за косу какое-нибудь беззащитное создание, приказать выпороть на конюшне верного слугу.
Без Тани ее истязаниям и конца бы не было, но Таня всегда умела сдерживать бешеные порывы своей матери. На дочь у княгини рука не поднималась. Она смущалась и смирялась перед взглядом и тихим голосом Тани. Несмотря на свою порочность, она сохранила в себе все же некоторое чувство и некоторую совесть. Она понимала доброту и благородство Тани, считала ее почти святою и сознавала свою вину перед нею.
Благодаря заступничеству княжны, очень часто дворовые избавлялись от жестоких наказаний. Княгиня мало-помалу утихала и делалась особенно нежной с Таней, не отпускала ее от себя, ходила за нею как тень, а если являлся Петр Фомич, то относилась к нему очень холодно и просила его удалиться.
Он молча уходил, бросая исподтишка злой взгляд на Таню, которую почему-то называл «Лисой Патрикеевной» и издавна ненавидел.
Таня же всегда глядела на него даже и тогда, когда еще совсем не понимала его настоящего значения в доме, с чувством гадливого ужаса…
Он с первых дней своего появления представлялся ей противным чудовищем, его присутствие всегда отравляло ей жизнь; но, странное дело, она никогда и ни с кем, начиная с матери, не говорила о нем. Она молча раз и навсегда признала неизбежность существования этого зла и молча его переносила.
В последнее время, когда мысли ее прояснились, когда она отгадала, что такое Петр Фомич – никто, конечно, не говорил ей об этом – она часто плакала втихомолку, иногда невольно избегала матери, была не в состоянии глядеть ей в глаза. В дни бешенства, нападавшего на княгиню, Тане приходилось высказывать матери много неприятной для нее правды, а та ее почти всегда выслушивала, но ни разу не было между ними разговора о Петре Фомиче, ни разу Таня не произнесла даже его имени.
Страдая от его присутствия больше, чем когда-либо, Таня делала вид, что не замечает его, что он совсем для нее не существует, и княгиня видела это и понимала, и молчала.
Как-то Петр Фомич вздумал неодобрительно заговорить с ней о дочери, но сейчас же должен был убедиться, что начал это совсем напрасно. Княгиня вспыхнула, вскочила и подбежала к нему с сжатыми кулаками.
– Молчать! – закричала она. – Раз и навсегда знай, что нам с тобою говорить о ней негоже!
Петр Фомич замолчал и еще больше стал ненавидеть Таню.
По счастью, его ненависть была совсем бессильна, а то зло, которое мог он ей сделать, он уже давно сделал…
Предсказания Рено стали сбываться, и он первый, конечно, заметил новое чувство, возникшее в Сергее и Тане.
Едва сдерживая добродушную улыбку, Рено следил за румянцем, быстро вспыхивавшем на щеках Сергея при каждом разговоре о молодой соседке, за новым выражением в глазах Тани при каждом свидании с Сергеем.
Дети выросли, и так все обстоятельства сложились, что они должны были полюбить друг друга. У них не было иного выбора.
«Будет хорошая парочка, – повторял себе Рено. – Только чересчур рано. Боже избави, если они теперь же вздумают вить себе гнездо!.. Это было бы большим несчастьем для Serge’a, да и для нее тоже, они должны еще много пожить, прежде чем сойтись окончательно, должны увидеть, узнать свет».
Теперь Рено все меры начал употреблять, чтобы отдалить сближение между молодыми людьми. Он старался осторожно, незаметно отвлекать Сергея от Тани, расстраивать их продолжительные разговоры, устремлять в другую сторону мысли Сергея. Он заинтересовал его общественными и политическими вопросами, тревожными событиями, происходившими во Франции, откуда он получал время от времени письма.
Сергей интересовался всем, но это нисколько не мешало ему в то же самое время интересоваться и Таней, хотя он еще и не понимал своего нового чувства. Однако скоро кончилось тем, что молодые люди, не сговариваясь, сошлись в беседке у Знаменского озера и обнаружили друг перед другом свою тайну.
IX. Письмо
Бориса Григорьевича похоронили. Сергей, возбуждаемый словами Рено и постоянно им ободряемый, сумел сдержать свое горе и ужас: на похоронах он вел себя с большим достоинством, так что оставил очень хорошее впечатление во всех съехавшихся знакомых.
Потом мало-помалу все стало успокаиваться в Горбатовском; даже Марья Никитишна не предавалась уже порывам отчаяния, ее горе выражалось теперь тихими слезами и ежедневными долгими молитвами на могиле мужа.
Елена, тринадцатилетняя девочка, совсем уже возвратилась к своей прежней жизни.
У Сергея было много занятий; он стал ездить с Рено в Тамбов, устраивать дела по отцовскому наследству, вел переписку с управляющими дальних деревень, писал письма к многочисленным московским и петербургским родственникам.
Таня по-прежнему часто бывала у Горбатовых, но ей все не удавалось говорить наедине с Сергеем, и они оба даже избегали подобного разговора. Им казалось страшным вернуться к минутам в голубой беседке, будто это почему-то было запрещено в первое время семейного горя. Проходили дни, недели, а они все встречались только при посторонних. Вот уже и снег повалил, зима настала, время идет так быстро. На имя Сергея Горбатова пришло письмо из Петербурга.
Старый приятель и родственник Бориса Григорьевича, Лев Александрович Нарышкин, писал Сергею:
«Любезный племянник. Письмо ваше с горькою вестью о внезапной кончине дорогого моего друга, а твоего отца, Бориса Григорьевича, я получил и о чем вы писали мне, о ваших пензенских вотчинах, велел навести справку и на сих днях отвечу вам в точности. Также и матушке вашей, Марье Никитишне, со следующей почтой письмо посылаю. Теперь спешу отписать тебе, любезный племянник, о некоем обстоятельстве, до тебя касающемся: вчерашнего числа вечером был я у Государыни на эрмитажном собрании, и Ее Императорское Величество подошла ко мне, спросить изволила: “Правда ли, что Борис Григорьевич скончался?” И когда я ответствовал, что правда, то Государыня поинтересовалась узнать, какова его фамилия, справилась, сколько тебе лет, и, узнав, изволила покачать головою и улыбнуться: “Странно молодому Горбатову сидеть в деревне – ничего там не высидит. Отпишите ему с предложением приехать в Петербург и представьте его мне – я желаю с ним познакомиться”. Таковы подлинные слова Монархини, и из тона их видно все оной к тебе доброжелательство. Еще в бытность мою у вас в Горбатовском, четыре года тому назад, упрашивал я покойного отца твоего и о том же писал ему многократно, чтобы он прислал тебя в Петербург, где ты можешь и на службе Ее Императорского Величества и в обществе занять подобающее твоему происхождению и состоянию место, но покойник имел на сию материю свой взгляд. Ныне ты уже в таком возрасте и по обстоятельствам можешь располагать сам собою. Вряд ли твоя почтенная матушка захочет тебя отговаривать. Если есть какие дела в деревне, то обделай их скорее и отпиши мне немедленно. Пребываю в полной благонадежности, что благоразумие твое не дозволит тебе отказаться от милостей Государыни, которая есть истинная мать всем нам.
Ожидая скорого вашего ответа, остаюсь тебя любящий Лев Нарышкин».
Сергей внимательно прочел и перечел это письмо; кровь бросилась ему в голову, сердце шибко забилось.
Часто в это последнее время новые мысли рождались в голове его. И без доказательств Рено, который время от времени обращался к этому предмету, Сергей и сам чувствовал, что для него начинается теперь совсем иная жизнь, что он свободен, что явилась возможность познакомиться наконец с настоящей жизнью. О Петербурге, о Дворе он не думал, но он думал о Париже, он неудержимо стремился туда, подзадориваемый красноречием Рено.
Но ведь и Петербург, и Двор – все это может быть по дороге к Парижу! И вот это письмо!.. Новая, широкая, прекрасная будущность сама спешит к нему навстречу…
Он отыскал Рено, перевел ему письмо, так как француз упорно продолжал не понимать ни одного слова по-русски. Рено заволновался.
– Ах, как это кстати, как это хорошо складывается!.. Конечно, друг мой, сейчас же садитесь и – отвечайте!.. Постойте, сообразим все ваши дела… сколько еще времени будет требоваться ваше присутствие в Тамбове и здесь?..
При обсуждении настоящего положения оказалось, что недели в три можно будет окончательно освободиться.
Состояние Горбатовых было громадное: более чем в пятнадцати местах России у них были вотчины с тысячами душ крестьян.
Борис Григорьевич оставил после себя богатейшую коллекцию драгоценных камней, до которых был охотник и которые скупал в течение всей своей жизни через посредство родных и знакомых. Крупные суммы хранились в Горбатовском.
Ни тяжб особенных, ни других запутанных дел не было…
Приказчики и управители, по большей части из своих же крепостных, высылали из дальних вотчин доходы, высылали аккуратно, и если при управлении себя не обижали, то это было уже их дело.
Хозяйство в Горбатовском велось Марьей Никитишной, и велось превосходно, так что молодой Горбатов не был ничем связан, мог жить, где ему угодно, и не заботиться о деньгах. Разве что вздумает он за окошко бросать их, а то, как бы роскошно ни стал жить, богатства его и девать будет некуда.
В тот же вечер Сергей говорил с матерью.
Она внимательно выслушала чтение письма Нарышкина, перекрестилась и тихонько вздохнула.
– Ну что же, Сережечка? Что же, голубчик? Я так ведь это и знала, к тому теперь и готовились… одна останусь… что же! Кабы и в моей было воле, так не стала бы тебя удерживать, я и покойнику не раз говаривала, что негоже тебе долго в деревне оставаться… только он приказал мне молчать – об этом – сам ведь знаешь, голубчик-то наш хоть и большого ума был человек, а как заговоришь с ним о Петербурге да об государыне, так на него ровно что находило: «Никакой нет, говорит, государыни, государь был Петр Федорович!», а Петербург он Вавилоном величал: «Не пущу, говорит, сына в Вавилон на погибель, сам больше двадцати пяти лет живу в Горбатовском, пусть и он здесь всю жизнь проживет!..» Ну а теперь у тебя самого воля, делай как знаешь, может, там тебя и счастье ожидает… Ох, горька мне будет разлука с тобою, Сереженька!..
– Да ведь я не навсегда, – перебил Сергей, – я, матушка, буду сюда возвращаться, да и сама-то, может, с сестрою в Петербург приедешь.
Марья Никитишна покачала головою и пригорюнилась.
– Нет, Сереженька, мне этого не говори, сам поезжай, куда знаешь, а я-то уж тут, в Горбатовском, останусь до самой смерти, я-то уж не тронусь… Всю ведь жизнь тут прожила – другой-то жизни, почитай, и не помню, – а главное: он так хотел… да он бы не простил мне одной мысли уехать из Горбатовского!.. Я против его воли никогда не пойду… Тут и могилка его – около нее теперь и вся жизнь моя…
Сергей взглянул на добродушное, жалкое лицо матери, увидел тихие слезы, стоявшие в глазах ее, у него защемило сердце – он кинулся к ней, крепко ее обнял, целовал ее руки.
– Бог с тобою, мой голубчик, – тихо говорила она, – живи, будь счастлив, не забывай мать… Коли сама государыня о тебе справлялась да пожелала тебя видеть, само собою, можно ли тебе не ехать! Ну, и поезжай с Рено. Отвечай Льву-то Александрычу немедля, и сама я ему писать буду, поблагодарю его за ласку да за родственную память…







