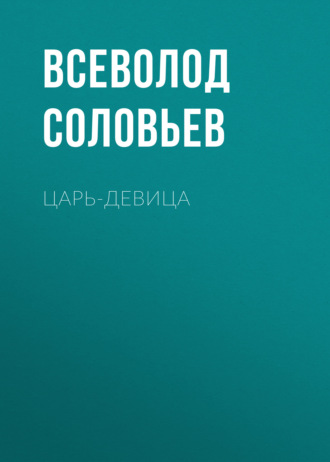
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Софья положила свои руки ему на плечи и озарилась вся знакомой ему нежной улыбкой.
– Вот так-то лучше, Васенька! Вот теперь опять узнаю тебя!
Она стала с жаром рассказывать ему обо всех событиях последних дней.
Она говорила увлекательно и он, незаметно для самого себя, начинал все больше поддаваться обаянию ее речи, начинал смотреть на все ее глазами.
– Ну, что ж, – выслушав ее, проговорил он, – дело-то выходит не так уж дурно. Ты говоришь, царевна, стрельцы готовы, можно теперь легко убедить их, чтоб они, собравшись все до единого, явились во дворец и били челом, прося не обижать царевича Ивана. Конечно, все это должно быть мирно и тихо – один вид войска и настоятельное требование перепугают Нарышкиных. Не пролив ни одной капли крови, не совершив никаких несправедливостей, можно будет уладить дело: Иван будет объявлен царем вместе с Петром; мы укажем на пример из византийской истории, укажем на Василия и Константина, Гонория и Аркадия… А когда Иван будет на престоле, то вам уж нечего бояться Нарышкиных…
– Твоими бы устами да мед пить, Васенька! – как-то загадочно произнесла царевна. – Хорошо было бы, если б все обошлось мирно и тихо, как говоришь ты!
И долго еще беседовали царевна и Голицын. Но странное дело – Софья многого недоговаривала. Утаила она от друга Васеньки про посылки Родимицы в стрелецкие слободы, про то, что еще не далее, как вчера, она просматривала с дядей Милославским лист, где были написаны имена всех бояр и вельмож, которые должны пасть жертвами задуманного возмущения. Она решила, что Васеньке нечего знать об этом – он многого не понимает: вон ведь младенец какой – считает возможным все устроить без капли крови! Не видит… не чувствует того, что нельзя оставить в живых Матвеева с Нарышкиными!.. Ничего, и без Васеньки теперь обойтись можно. Дело на лад пошло, а когда она добьется своей цели, когда она сделается второю Пульхерией, тогда-то вот Васенька сослужит великую службу и ей и государству. Теперь же пусть будет подальше – он белоручка, не для него черная работа, да и хорошо, что так, и слава богу!
Сердце царевны, отуманенное честолюбием, ненавистью и жаждой мести, все же не было лишено добра и света: ей казалось, она была уверена, что нельзя обойтись без крови, и она смело утвердила список жертв, присланный ей Милославским; но ей было приятно думать, что любимый друг ее выйдет чист, без малейшего пятнышка из этого необходимого, но страшного дела.
Голицын едва успел покинуть покои царевны, как на его место явился Иван Милославский.
– Ну что? – тревожно обратилась Софья к боярину. – Что? Все готово? Ведь теперь медлить нечего – Матвеев здесь.
– Да, Матвеев здесь, и медлить нечего! – повторил за нею Милославский. – Вот видишь, и я выздоровел: полно болеть. Целую неделю пролежал, стонал на весь дом, горячими отрубями да кирпичами жег себя, чтоб все видели и знали, как жестоко я болен… А теперь полегчало. Завтра все должно решиться, не то старик предупредит нас, заберет в руки все правление. Больно хитер он – каков был, таков и вернулся, ничего не растерял дорогой. Лисица проклятая! Многих уж успел обойти. Приезжали ко мне из бояр некоторые, так только и разговору, что про Артамона; лаской его не нахвалятся, которые и с нами были, так теперь готовы лизать полы его кафтана. Нет, где уж тут мешкать!.. Еще одно – я всем толковал про Нарышкиных, что как это Ивана-то Нарышкина на двадцать третьем году пожаловали в бояре, – так что же бы ты думала? – и Артамон-то всем на это жалуется, говорит: Нарышкина не по достоинству награждают. Все и уши развесили, радуются: приехало красное солнышко, Артамон Сергеевич!.. Прощай пока, царевна, завтра свидимся.
Софья пошла проводить его до выхода из своих покоев.
Он уже взялся за ручку двери, ведшей в галерейку, уже приотворил дверь, но царевна его остановила:
– Так как же будет? Так, как мы порешили?
– Да. Чем свет пошлю Александра да Петра Толстого в стрелецкие слободы…
– Ну да, да! – тревожно сжимая своей быстро холодеющей рукой руку Милославского, говорила Софья. – Да… пусть пораньше едут… пусть кричат по всему городу, что царевича Ивана задушили Нарышкины…
– Ладно! Будет исполнено! – ответил Милославский направляясь по галерейке.
Царевна затворила за ним дверь и вернулась к себе. Она не заметила, что в темном углу галерейки, у самой двери, стоит какая-то женская фигура.
Когда двери за царевной затворились и затихли шаги Милославского, эта фигура вступила вперед, подошла к окошку и бессильно оперлась на него, будто боясь упасть.
При бледном свете майского вечера можно было распознать прекрасное молодое лицо, на котором теперь изображалось глубокое нравственное страдание. Большие черные глаза были широко раскрыты ужасом, высокая девичья грудь порывисто дышала.
Это была Люба Кадашева. Проходя галерейкой и невольно остановясь, чтобы не столкнуться с тучным Милославским, она слышала последние слова Софьи…
VI
Минуты шли за минутами, а Люба все стояла, прислонясь к окну, в каком-то оцепенении. Много нежданных, мучительных мыслей пронеслось в голове ее.
Что такое она слышала? Она не могла обмануться в значении слов царевны, хорошо теперь его понимала. Так вот какое дело готовят! Вот какому делу и она помогала! И кто же готовит – царевна! Ее Царь-девица, ее небесный ангел! Царевна, краше которой, добрее которой и чище, она думала, никого нет на свете… Эта царевна берет на себя страшную ложь, обман всенародный, следствием которого, может быть, будут потоки крови… Люба все понимала. Не далее, как два дня тому назад, по царевниному же поручению, была она в слободе стрелецкой у Малыгина и плакала перед ним, описывая скорбь царевны, тяжкие обиды, которым подвергается Царь-девица. Сама Софья натолковала ей об обидах этих, и ей ли было не поверить царевне!
До сей минуты она видела в ней безвинную страдалицу, а тут что же?.. Она затевает смуту, хочет поднять народ обманом… Или это правда? Действительно, задушили Нарышкины царевича?..
Но в ответ на эту мысль Люба горько усмехнулась и зарыдала.
«Разве бы все было так тихо во дворце и в тереме, если б случилось такое несчастье? Царевна незадолго перед этим была у брата и вернулась оттуда спокойною, да и теперь с Милославским говорила совсем не так, как говорила бы, если бы задушили Ивана… Но ведь этого же быть не может – царевна не способна на такой поступок! Нет, надо узнать, в чем дело!»
Люба почувствовала, что если она останется в этой мучительной неизвестности, то всю ночь не сомкнет глаз ни на минуту. Она чувствовала, что не вынесет того непонятного томления, которое закралось теперь в ее сердце.
Вдруг какая-то решимость блеснула в глазах Любы. Она сделала несколько шагов от окна назад, к царевниной двери, и смело вошла в покои.
Царевна сидела в своей рабочей комнате перед столом; в руках у нее была книга, но она, очевидно, ее не читала. Склонив голову на руки, она глядела не мигая в одну точку: мысли ее были далеко.
Но все же, услышав как отворяется дверь, она подняла голову и увидела входившую Любу.
– Чего тебе? – рассеянно спросила она.
Люба тихо приблизилась и молча остановилась перед нею.
Царевна взглянула в лицо ее, и откинула свою голову, и еще раз пристально взглянула.
– Что с тобою? Какое лицо у тебя странное, ты на себя не похожа. Что случилось?
Люба упала в ноги Софье и зарыдала.
– Да говори же, говори! – уже испуганным голосом переспросила царевна.
«Боже мой! Что там? Не несчастье ли какое? Не помеха ли нашему делу?» – подумала она.
– Государыня, – начала, едва останавливая свои рыдания, Люба, – я шла по галерейке, как из твоей двери выходил боярин Милославский… Я не хотела подслушивать, видит Бог, не хотела и остановилась только, чтоб не толкнуть боярина… Я слышала то, что ты ему сказывала…
Царевна ничего не понимала.
– Ну так что ж? – произнесла она. – Я верю, что ты без вины подслушала и прощаю тебе, только, конечно, ты держи язык за зубами, да, чай, и сама понимаешь… нечего учить мне тебя.
– Государыня! Царевна!.. Так это правда? – в ужасе, отчаянным голосом проговорила Люба.
– Что правда?
– Да что царевича задушили…
Софья нетерпеливо пожала плечами.
– А ведь я считала тебя умнее, – сказала она, – нет, ты, видно, еще дитя неразумное! Царевич жив… Но ведь нужно же как-нибудь поднять стрельцов, нужно же нам как-нибудь спасти себя. Ведь вот до сих пор буянят они там в слободах, а никакой для нас пользы еще не вышло. Так авось весть о том, что царевича задушили, наконец их поднимет – поняла теперь, глупая, что ли?
Люба уже давно понимала. Стоя на коленях на полу перед царевной, она склонила голову и горько плакала.
– Встань! – повелительным и строгим голосом сказала Софья.
Люба машинально повиновалась.
– Или ты больна сегодня, горячка у тебя, что ли? – продолжала Софья. – Чего ты ревешь? Нет, ты полоумная… Уйди, оставь меня – мне не до тебя теперь!
Люба глядела во все глаза на Софью. Слезы ее мгновенно остановились, да и было с чего. Неописанное изумление остановило эти слезы: диво дивное свершилось перед Любой. Чудная, светлая красавица в одно мгновение лишилась всей красоты своей, превратилась в злую, холодную женщину.
Что ж это такое? Или бес морочит Любу, или перед ней не царевна Софья, а кто-нибудь другой, взявший на себя ее облик.
Не проронив больше звука, вышла Люба из этой комнаты, пробралась к себе, накинула на плечи летник, лицо покрыла фатою, тихо вышла из терема и пустилась бежать вдоль Кремля, за ворота, по московским улицам, в стрелецкую слободу, к Николаю Степановичу.
Несмотря на поздний вечерний час, на улицах не было обычной тишины. То здесь, то там встречались Любе выходившие из своих дворов жители. Они подходили друг к другу, тихо и таинственно о чем-то толковали, оглядывались, прислушивались. Что-то странное творилось в городе: никто ничего не знал, но все предчувствовали близкую бурю и не могли успокоиться.
Чем ближе к городскому валу, чем ближе к слободе, тем народу попадалось больше; а за валом и совсем будто днем жизнь кипела. Стрельцы собирались в кучи, громко кричали, спорили. Из кабаков выходили пьяные ватаги с гамом и песнями. Вот завязалась драка, кого-то сильно избили, кто-то стонет… Полное безначалие, никто не останавливает беспорядков, будто и нет совсем у стрельцов полковников. Одни из них во всем потакают стрельцам, сами же, закупленные агентами царевны, подбивают на всякие бесчинства. Другие не смеют показаться, боясь испытать участь товарищей, сброшенных с каланчей.
Опасно быть одинокой молодой девушке среди этого расходившегося, дикого люда. Но Люба не думает ни о какой опасности. Как стрела мчится она вдоль улицы. Вот и дом Николая Степановича. Слава богу, калитка не на запоре! Можно прошмыгнуть в нее, не обратив на себя ничьего внимания. Люба пробежала небольшой дворик и постучалась у крыльца. Прошло несколько невыносимо мучительных мгновений – никто не отзывался.
«Боже мой, – думала Люба, – его нет дома, он там где-нибудь! Он вооружает теперь свой полк, готовит его к бунту, исполняет то, о чем я сама, несчастная, просила его именем царевны… И он думает, что делает доброе дело… Что же будет, если нет его дома?.. Я должна его видеть!»
Она принялась стучать еще громче.
Слава богу, вот слышны чьи-то шаги в домике, кто-то подошел к двери.
– Отворите! – глухим голосом крикнула Люба.
Дверь отворилась, перед ней – Малыгин. Слабый свет бледнеющего заката озаряет лицо Любы. Малыгин глядит на лицо это в страхе: так оно бледно, такое на нем мучительное и испуганное выражение.
– Государыня Любушка, ты ли это? Не ждал я тебя в такую пору, что случилось?
– Ах! Много случилось, Николай Степанович! – ответила Люба таким страшным голосом, что у него душа ушла в пятки. – Впусти, все расскажу, что случилось.
Он впустил, запер дверь. Она упала на первую попавшуюся лавку и несколько минут не могла прийти в себя. Говорить хотела, но сердце стучало громко, язык не слушался. Наконец, кое-как успокоившись, она передала Малыгину о том, что подслушала при прощании Милославского с царевной, и о том, что и как говорила ей Софья.
Малыгин сидел перед Любой, глядел на нее во все глаза и долго никак не мог взять в толк, что это такое она говорит и что такого страшного в словах ее.
– Чего же ты убиваешься, отчего на тебе лица нет? – наконец выговорил он, когда она кончила. – Ведь царевич-то жив, так что ж?
Теперь и Люба в свою очередь его не понимала.
– Как так что же? – растерянно прошептала она. – Царевич жив, и никто ему никакого зла не делает, а она всех обмануть хочет!.. Завтра чуть свет, слышь ты, наедут к вам Милославские для того, чтоб обманом вести вас в Кремль.
Она пристально, с мучением глядела на Малыгина, ждала, что он говорить будет. Но ему говорить было нечего; он совсем запутался. Он не знал, чего она от него хочет. Ведь сама же заставляла его работать в пользу царевны, всячески его уговаривала. Прежде, до этих уговоров, ему никакого дела не было до того, кто после царя Федора будет назначен ему преемником: Иван или Петр. Он думал только об одном, как бы рачительнее исполнять свой долг, свою службу. Он возмущался, видя несправедливости, которые себе позволяли его сотоварищи – стрелецкие начальники с подчиненными, и сам относился к своим стрельцам ласково, держал себя так, что они ни в чем не могли обвинить его, и за это стрельцы выказывали ему полное доверие даже в последние дни, во дни великого своего буйства. Все, что он говорил, выслушивали внимательно и во всем с ним соглашались. А он говорил теперь много, он решился сослужить службу своей государыне Любушке, помочь делу ее Царь-девицы. Вот и подготовлено дело, остается только предлог найти, чтоб двинуть полки в Кремль – и предлог найден. Разумная и хитрая царевна самую подходящую вещь придумала; теперь нет сомнения, что, услыхав о мнимой смерти царевича Ивана, все войско, как один человек, кинется расправляться с Нарышкиными, и царевна восторжествует. Некому уж будет обижать ее, нечего будет Любе плакаться на горькую долю своей благодетельницы… Так чего же Люба? Она недовольна этим, она чем-то перепугана до полусмерти! Чудная, непонятная девушка!
– Николай Степанович, да не молчи ты, не гляди на меня так! Не то, я чувствую, что у меня разум совсем помутится! Не томи меня, Николай Степанович! – отчаянно шептала Люба.
– Ума я не приложу, золотая моя боярышня, – отвечал Малыгин, – чем ты недовольна! Ты добрую весть принесла мне, и вижу я теперь, что завтра же на вашей улице будет праздник. Мы только и дожидаемся от вас какой-либо весточки…
– Как? Ты ли это говоришь, Николай Степанович, тебя ли слышу? И ты тоже?! Все!..
Люба схватила себя за голову и горько зарыдала.
Малыгин бросился к ней, стараясь всячески ее успокоить, но она не успокаивалась.
– Пойми же, наконец, – заговорила она, останавливая свои рыдания, – пойми, что мы наделали! Дура я, деревенщина, хуже малого ребенка! Кругом меня обманули… Только теперь… только сейчас прозрела! Беги, Николай Степанович, если Бог в тебе есть, беги скорей по своему полку… Говори, что вы обмануты, что солгут завтра Милославские, чтобы не верили ни слову… Говори, что жив царевич, что никто его не обижает, никто не обижает и царевну Софью, а это она всех хочет обидеть… Она хочет неповинной крови! Беги, говори, что она изверг, злодейка, что вас не жалеет, а ведет на погибель только. Да погоди, постой, я сама побегу с тобою, я все расскажу им… Я расскажу, как я любила ее, как я верила, что она светлая, чистая, прекрасная, и как она меня обманула! Да и не сейчас, не сегодня я все узнала. Уж не первый день начала догадываться, только себе не верила.
А она-то ведь плакала предо мною, так жалобно описывала всякие обиды… Нет, пойдем, Николай Степанович, скорее!
Люба быстро встала и направилась к двери. Малыгин едва удержал ее.
– Что ты, бог с тобой, как тебе идти можно?.. Пойдешь себе на погибель! Разве они послушают, разве с ними говорить теперь возможно? Разве не знаешь, что вся наша слобода теперь ровно ад кромешный, что стрельцы не люди теперь, а звери лютые… Что ж, пойдем, будем говорить. Много они нас послушают. Много нам поверят… В куски нас с тобой разорвут – вот что!
Безумный крик вырвался из груди Любы:
– И я этому помогала! Господи!
Она остановилась, бессильно опустила руки и ничего не могла сообразить.
Николай Степанович тоже стоял возле нее в задумчивости. Теперь он все уже понял, теперь Люба не казалась ему больше чудною. Он взглянул на бледное, измученное лицо ее, и то страстное, горячее чувство, которое всегда охватывало его в ее присутствии, теперь превратилось в благоговение. «Чистая душа! – мелькнуло в голове его. – Дитя Божье! И я-то хорош, я-то хорош! Не разглядел ее, думал, что она одного поля ягода с Родимицей… Да где же были глаза мои? Что же, ведь и по годам она совсем еще ребенок. Много ли жила-то, ничего не видала, а тут в этакую кутерьму попала!.. Бунтовщица… Хороша бунтовщица!»
Между тем Люба вдруг вышла из своего оцепенения. Страшные картины одна за другой рисовались перед нею. Она вспомнила весь тот ужас, который был детским впечатлением ее детства. Вспомнила, как охмелевшие и безумно кричавшие люди окуневского приказчика убивали ее отца и мать… Припомнилась ей и недавняя ночь, проведенная ею в Медведкове… Все эти воспоминания ясно ей показывали, как легко убиваются люди, до каких зверств доходит толпа, кем-нибудь возмущенная. И теперь будет то же самое! Страшны стрельцы. Завтра кровь будет литься рекою!..
– Пусти, Николай Степанович! – решительно проговорила Люба, вырываясь из комнаты. – Ты идти со мной не хочешь, ты боишься, так я пойду одна, пусть меня разорвут на части, пусть, и поделом! Я виновата!..
С необычайной силой отстранив Малыгина, который пробовал загородить перед нею дверь, она выбежала из домика и пустилась по улице.
Николай Степанович бросился за нею.
VII
Между тем на улице пустело. Те из стрельцов, которые были трезвы, уже разошлись по домам; оставались одни пьяные ватаги у дверей кабаков. Малыгин в ужасе спешил за Любой, окликая ее и умоляя остановиться; но она ничего не слышала, ничего не видела. Она не понимала полной безрассудности и бесполезности своего поступка.
Увидев значительную толпу стрельцов, она побежала к ней и начала было, задыхаясь, просить о том, чтобы, ее выслушали, что она имеет сообщить нечто очень важное.
Но пьяные стрельцы не дали ей докончить и с первых же слов обступили ее со всех сторон. Один грубым движением сорвал с лица ее фату, другой силился обнять ее.
– Красавица, пташечка залетная, – откедова? Милости просим! – раздавались пьяные голоса. – Ишь ты какая! Видно, бой-баба, сама к стрельцам лезет – нам таких и нужно! Пойдем, девка, выпьем да споем песенку!
Двое стрельцов схватили ее за руки и стали тащить к кабаку. Она разом очнулась и поняла свое положение.
В эту минуту Малыгин добежал до нее, вырвал ее у стрельцов. Но стрельцы, хоть и узнали его, не намерены были, по-видимому, отступиться от такой находки.
– Эй, Миколай Степанович, отвяжись! – закричали они. – Тебе-то что! Ведь она сама к нам прибежала. Мы не украли ее…
– Пустите! – отчаянным голосом проговорил Малыгин. – Пустите!.. Первый, кто подступится, того уложу на месте.
Он выхватил из-за пояса нож и начал махать им во все стороны.
– Да чего ты грозишься-то! Не больно мы тебя боимся! – заголосили стрельцы.
Люба поняла, что еще мгновение – и начнется свалка.
– Пустите меня! – крикнула она изо всей силы и рванула свою руку из руки стрельца, ее схватившего. – Пустите, я шла к вам спросить, где мне найти Николая Степановича, а вот и он сам. За что же вы меня обижаете?
Стрельцы отступили.
– Ну, коли так – другое дело! – проговорило несколько голосов. – Давно бы и сказала, что малыгинская. Бери, Миколай Степанович, мы твоего не желаем, а ты уж и нож сейчас вытащил – больно прыток!
Малыгин схватил Любу за руку, крепко держал ее и пустился бежать с нею назад к своему дому.
А вослед им раздавались непристойные шутки на их счет, только ни Малыгин, ни Люба не обращали на это внимания, да и вряд ли что-нибудь слышали.
– Ну, что ты наделала? – проговорил наконец Николай Степанович, когда они были у дома. – Ведь говорил, не беги… Разве могут они теперь понять что-нибудь? Ведь если б Господь не надоумил тебя сказать им, что ты меня ищешь, так что бы вышло? Они бы не задумались, уложили бы меня на месте перед твоими глазами… Не боюсь я смерти и, защищая тебя, всякую минуту умереть готов; а все же умирать-то не хочется, на тебя досыта не наглядевшись…
Люба взглянула на него растерянным и молящим взглядом.
– Прости, Николай Степанович, вижу, что следовало тебя послушаться. Только, боже мой, что же мне делать? Говорю тебе, ум мутится у меня – ведь нельзя же так сложить руки и быть спокойной, когда готово совершиться такое дело! Пойдем, Николай Степанович, потолкуем, чем бы пособить… Но вот я, глупая, ничего сообразить не могу, так ты-то научи меня уму-разуму, подумай хорошенько…
– И без того думаю, – отвечал Малыгин, входя следом за Любой в свой домик и крепко запирая дверь. – Теперь ничего не поделаешь, – продолжал он, – нужно ждать утра.
– Николай Степанович, – вдруг тихим, но каким-то особенным голосом, который заставил вздрогнуть молодого подполковника, произнесла Люба, остановившись перед ним и пристально, не отрываясь, глядя в его глаза, будто думая прочесть в них всю его душу. – Николай Степанович, поклянись мне, что ты сделаешь все, чтобы разуверить завтра твоих стрельцов, чтобы удержать их… Поклянись, что ты не допустишь кровопролития. Теперь вон они пьяны, утром авось будут другие… Поклянись мне!
– Клянусь, – тихим и торжественным голосом сказал Малыгин.
Несколько мгновений они молчали.
Николай Степанович сидел, опустив голову и порывисто дыша. С ним происходило что-то необычайное.
Вдруг он тряхнул своими кудрями, взял Любу за руку и склонился перед нею.
Она взглянула на него и увидела на глазах его слезы.
– Что ты? Ты плачешь?
– Да, да, плачу, – прошептал он. – Чудо великое ты сотворила со мною… Вот ты говорила, что была слепа и сегодня прозрела, я, видно, тоже был слеп, и ты раскрыла мне очи. Видела ты, что я долго не мог понять тебя, когда ты мне с таким ужасом да со слезами рассказывала про выдумки царевны. Да, я не понимал, но теперь понял, понял, что тебя мучит и почему ты считаешь себя виноватой… И вот я поклялся тебе и исполню свою клятву. Пусть убьют меня, пусть на копья подымут стрельцы безумные, а я сделаю свое дело; выведу правду наружу… То, что ты находишь злом, то и есть зло; как ты поступать прикажешь, так поступать и надо – Бог говорит твоими устами – и я счастлив, как никогда еще в жизни не бывал счастлив, что мог понять тебя; не отвертывайся же от меня. Многим я грешен Богу, но все же не вконец позабыл еще Его. Учи меня правде!
Люба с восторгом вслушивалась в эти неожиданные и беспорядочные, прерывистые его речи. Каждый звук их она ловила, и каждый звук новым блаженством ложился на ее сердце.
– Николай Степанович, дорогой мой, голубчик! – проговорила она, и вдруг слезы брызнули из глаз ее.
Она потянулась вперед, охватила своими дрожавшими руками голову Малыгина и прижала ее к груди своей.
– Так ты меня любишь? Любишь? – шептал он.
– Люблю! – отвечала она бессознательно, не зная, как само собою сказалось это слово, как оно вылилось в такую тревожную минуту.
Во мгновение они оба все позабыли… только глядели друг на друга.
Люба склонилась на плечо Малыгина и тихо плакала. Новая жизнь началась для нее, и она не могла отталкивать от себя этой жизни, с блаженством встречала ее. И чем больше зла и обмана было в ее прошлом, чем сильнее болела последняя рана, нанесенная ей Царь-девицей, существом, к которому беззаветно она так привязалась и которое так ее обмануло, тем с большею страстью, с большим блаженством прильнула она теперь к единственному человеку, который откликнулся на призыв ее сердца.
А время шло. Вот уже и ночь над землею, но Люба не прощается с Малыгиным, не думает уходить от него – куда ей идти? У нее теперь нет дома. Ей страшно и подумать вернуться в Кремлевский терем. Он представляется ей таким страшным, таким заколдованным. Да, страшен он – его хозяйка злая колдунья. Слава богу, что Люба узнала ее – хоть поздно, но все же узнала – теперь она уж не обморочит, эта злая колдунья, не прикинется Царь-девицей.
VIII
Рано поднялась пятнадцатого мая царевна Софья и сейчас же кликнула к себе Родимицу. А та только и дожидалась этого зова. Она вошла и подала царевне записку.
– Вот, боярин Иван Михайлович прислал, – сказала она.
Софья быстро схватила записку и прочла: «Все благополучно, мы с Хованским готовы; Александр и Толстой погнали в слободы. Распорядись, чтоб кто-нибудь из твоих забрался на колокольню и в набат ударил – этак-то будет лучше, на стрельцов подействует».
– Ну, это твое дело, Федорушка, – произнесла царевна, перечтя громко Родимице записку, – сможешь, что ли?
Та только усмехнулась:
– Будет исполнено.
– А ко мне позови Любу, – прибавила царевна, – что она, здорова? Вчера, как полоумная какая, вбежала ко мне, вопит, а о чем – и разобрать невозможно.
– Я ее не видела сегодня, – ответила Родимица, – сейчас позову.
Но через несколько минут она вернулась с вестью о том, что Люба пропала. Никто ее не видел, постель не смята, видно, не ночевала в тереме.
Царевна пожала плечами.
– Ну, да бог с ней – не до нее теперь! – сказала она. – Ступай на колокольню.
– Сейчас бегу.
Родимица скрылась.
Царевна поспешно оделась без посторонней помощи и стала тревожно ходить по своим покоям.
«Что-то там теперь? Скоро ли будут? Все ли благополучно?» – думала она. И вот к этой мысли невольно примешалась и мысль о Любе.
Вчера, действительно, полная своих тревог, она не обратила внимания на Любу и не поняла ее странного посещения, но теперь ей ясно стало многое.
«Ах, она глупая девчонка! Ведь это она от меня отчета требовала, судьею моим являлась… Это ей не понравилось, что я живого брата за убитого хочу выдать… Вот где мне судья отыскался!»
Неприятная, злая усмешка скользнула по губам царевны.
«Но куда ж она делась, эта девчонка? Не ночевала… Уж не туда ли, не к своему ли Малыгину отправилась? Да, конечно, так и есть, там мутит, пожалуй… Только что ж она может сделать? Ей ли, холопке, со мной бороться!.. А я-то еще положилась на нее, думала, что она будет мне полезна. Глупая, глупая девка! Но ведь она смела, она на все готова решиться, если ей дурь какая придет в голову… Чего доброго, пожалуй, испортит еще что-нибудь… Что, если так?»
Тревога начала закрадываться в сердце царевны. Впрочем, она сейчас же себя и успокоила.
«Нет, теперь поздно! Теперь ничто и никто нам не помешает – дело сделано! Не Любашке со мной тягаться!»
Прошло еще несколько минут, и вдруг раздался набатный гул колокола Ивана Великого.
Весь дворец, терем, весь Кремль поднялся на ноги, всполошился.
«Что такое? Что это значит?»
Кинулись на колокольню. Кто звонит? Никого нету.
Родимица искусно притаилась в крошечном чуланчике под лестницей, и когда толпа людей, взбиравшихся на колокольню, была уже выше ее, она вышла из своего убежища и, стоя на лестнице, начала кричать:
– Бейте в колокола, бейте! Сзывайте народ! Разве не слышали – к Кремлю идет войско, все полки… Нас всех перережут!
– Кто это кричит? Кто?
Родимицу окружили, стали расспрашивать: с чего она взяла-то говорить такие речи?
– Сама видела, своими глазами, – отвечала она. – Посылайте скорей в город, так узнаете.
Несколько человек кинулись за кремлевские ворота и скоро вернулись с бледными, перепуганными лицами и объявили, что со всех сторон к Кремлю подвигаются полки стрелецкие.
Смятение началось страшное.
В это время Матвеев, приехавший к царице, вышел на дворцовое крыльцо, чтобы узнать причину набата: он предполагал, что загорелось какое-нибудь из зданий кремлевских. Но на лестнице ему встретился князь Урусов и дрожавшим голосом объявил ему, что стрельцы и солдаты бунтуют, вошли в земляной город и уже близко от ворот кремлевских.
Матвеев воротился и сообщил царице страшную новость.
Она всплеснула руками:
– Что ж нам делать? Что еще хотят они?
– Заранее не тревожься, государыня, – ответил Матвеев, – я сейчас отдам приказ подполковнику стремянного полка запереть все ворога; силою в Кремль войти не так-то легко… Может, все благополучно кончится.
Но не успел еще Артамон Сергеевич распорядиться позвать подполковника, как прибежало несколько человек с криками, что стрельцы уже входят в кремлевские ворота.
У Матвеева опустились руки.
Между тем дворец наполнялся со всех сторон приехавшими людьми.
Прежде всего к царице Наталье явились царевны из терема, а потом все Нарышкины и многие бояре из города, которые, заслышав о бунте стрельцов и их приближении и не без основания боясь всяких насилий, бросились в Кремль, во дворец, чтобы там найти себе убежище.
Скоро к этому перепуганному, теснившемуся собранию присоединился и престарелый патриарх Иоаким. Он вошел своей обычною спокойною поступью, но лицо его было особенно бледно и грустно.
– Тяжкие дни переживаем! – со вздохом произнес он, обращаясь к подошедшему Матвееву.
На Матвеева и взглянуть было страшно: он казался теперь столетним, расслабленным старцем.
– Страшные дни! – ответил он патриарху. – И боюсь я, что на меня ляжет ответственность за то, что происходит ныне. Я должен был это предвидеть, должен был понимать, что враги наши давно уж все подготовили… А я медлил, высматривал, не знал, на что решиться, три дня пропустил… Но мог ли я ждать всего этого – в мое время такие дела были невозможны… И все же я виноват – я приехал помочь царице, она на меня понадеялась, а я вот дряхл и бессилен, ослеп, ничего не разглядел. Виноват, пусть судит меня Бог… Мне остается теперь, если нужно, без трепета положить свою жизнь за царя и царицу. Но боюсь, что и этим я не помогу им…
Его седая голова бессильно упала на грудь, из глаз на морщинистые щеки закапали невольные слезы.
Несколько успокоившись, он оглядел всех присутствовавших, его взор остановился на царевне Софье.
«Вот первый враг наш! Вот чьих рук это дело!» – подумал он.
Софья что-то толковала царице Наталье. Она казалась встревоженной, испуганной. Но вот она начинает успокаивать царицу.
– Заранее нечего тревожиться, – говорила она, – Бог даст, все обойдется благополучно. Конечно, в последнее время стрельцы дают себе много воли, но кто ж виноват в этом? С самого начала не следовало им потакать, а как начали им потакать, так они и зазнались.
– Но что ж было делать, как не потакать? – мучительно произнесла Наталья Кирилловна. – Ведь уж всем видно, что мы в их власти: что хотят, то с нами и делают. Ох, чует сердце мое – не обойдется без крови. Боже мой, как быть нам?







