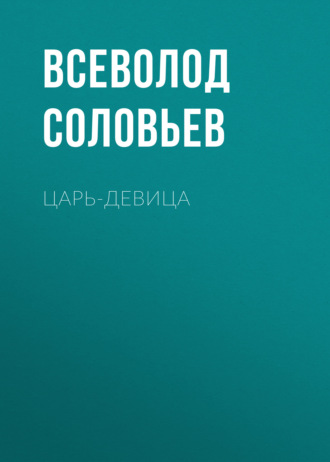
Всеволод Соловьев
Царь-девица
Он с изумлением глядел на нее. Он едва мог ее узнать, такое у нее было страшное лицо.
– На что ж ты решаешься? Чего ты хочешь? – спросил он.
– Чего я хочу?.. Конечно, одной только погибели врагов моих – погибели мачехи и брата. Еще раз Шакловитый все сделает, чтоб склонить стрельцов в мою пользу, но если и это не поможет, тогда останется одно… одно – отравить их…
– Что ты сказала? – в ужасе, хватая ее за руки и задыхаясь, говорил Голицын.
– Оставь меня, не безумствуй!.. – все тем же глухим голосом перебила его Софья. – Да, сказала и повторяю… остается отравить их! А!.. Если б было только можно, они бы уже двадцать раз нас с тобой отравили!.. Так тут нечего задумываться – тут мы или они! А я жить хочу… Я хочу, чтоб и ты жил – мы еще не всю жизнь изжили, у нас есть еще впереди кое-что… Умирать не время! Слушай… У меня мало теперь друзей, мало помощников… Один Шакловитый не может изменить мне… Да ты. Ты должен помочь мне…
– Что?! – закричал Голицын. – Что? Помочь тебе в таком деле!.. И ты решилась, и у тебя язык повернулся предлагать мне это! Мне страшно, мне стыдно за тебя… Боже мой! Но что ж это, ты больна, может быть? Ты сама не знаешь, что говоришь…
– Нет, я знаю, что говорю, я твердо решилась и не отступлю теперь…
Вся кровь бросилась в лицо Голицыну. Ему казалось, что какой-то громадный камень навалился на грудь его и давит, дохнуть не дает. Его мысли путались, он ничего сразу сообразить не мог. Софья ли это перед ним, она ли говорит это, или у него горячка и он бредит?!
Он сидел, опустив голову, не говоря ни слова.
– Что ж ты молчишь?
– Постой, постой, дай собраться с мыслями, – наконец, заговорил он. – Если для нашего спокойствия, для продолжения нашей счастливой жизни нужно преступление, значит, мы достойны нашей горькой участи. Да, мы ее достойны…
– Сумасшедший! – вскрикнула Софья и истерически захохотала.
Но он не слышал ее смеха, он ее не видел.
– Твое дело кончено, – продолжал он. – Ты управляла государством именем твоих братьев за их малолетством. Старший слабоумен, так и остался – за него ты управлять можешь; но младший вырос, созрел и требует от тебя законных прав своих… и ты должна ему уступить правление и дать отчет во всех своих действиях. Меня же, ближнего твоего помощника, государь тоже судить должен, и я дам ему отчет во всех делах моих – во всем, достигнутом мною, и в моих ошибках. Софья, судьба справедлива… Если поступки наши будут поставлены в вину нам, нам останется одно – смириться и найти утешение в молитве.
Софья с искаженным лицом остановилась перед Голицыным. Вот на губах ее мелькнула мучительная и в то же время злая и насмешливая улыбка.
– Трус, – проговорила она, – трус негодный, – вот ты кто!
– Может быть, и трус, – спокойно ответил Голицын, – я не знаю! Сам себя никогда не считал трусом, другие тоже меня таковым не считали… Может быть, и трус, но на преступление, на тайное убийство я не годен…
– Так ты отказываешься спасти меня?.. В последний раз спрашиваю – отказываешься?
– Такими средствами?.. Отказываюсь.
– Боже мой! – заломила в отчаянии руки царевна. – Все до единого… никого не осталось!
И вдруг она упала на колени перед Голицыным, хватала его руки, целовала их, обливала слезами.
– Васенька! Нет, этого быть не может: ты меня не покинешь, ты меня не оставишь!.. Вспомни, голубчик, вспомни – ведь я всю жизнь одного тебя любила! Ты мне был дороже света небесного, жизни дороже! Как нет тебя со мной – сколько слез горьких я выплакала, сколько ночей бессонных промучилась! Да вот и теперь, в это последнее время, как в поход ты ушел – боже мой! – минуты не проходило, чтобы я о тебе не думала. Посмотри на меня, ведь у меня седина появилась от этих страшных мыслей, ведь глаза потухли от слез. Васенька! Сам ты говоришь, что нас хотят разлучить… Я жить без тебя не могу, свет мой! Голубчик, сжалься надо мною!
Его сердце разрывалось от жалости, он безумно любил Софью, но эта женщина, умоляющая его сделаться убийцей, была для него совсем чужою; он не знал ее, он не понимал ее.
– Откажись от своих страшных мыслей, молись Богу, чтоб он простил тебе их. Забудем все, что ты говорила, забудем – не то я не вынесу…
С диким криком вскочила она с колен и отступила от него.
– Договаривай… Чего ты не выдержишь – донесешь на меня? Так, что ли? Так, иди, холоп презренный, доноси и знай, что я тебя проклинаю! Что на одре смерти я не прощу тебя… Слышишь, проклинаю! Проклинаю!..
И она, не помня себя, быстро ушла из палаты.
Голицын даже не встал, чтобы догнать ее, – он не был в силах пошевелиться.
X
Выйдя из дома Голицына, Софья была как безумная; даже мысль о самоубийстве пришла ей в голову, но она оставалась недолго. Чувство самосохранения и страшная ненависть к мачехе и Петру снова всецело поглотили ее.
Возвратясь в Кремль и придя несколько в себя, она приказала немедленно призвать к себе Шакловитого и долго с ним совещалась. Она решилась добиться своего во что бы то ни стало.
Он посоветовал ей еще раз самой поговорить со стрельцами, и было решено действовать в тот же день, не откладывая.
Шакловитый приказал собраться сотникам и пятидесятникам – провожать правительницу ко всенощной, к празднику, в Новодевичий монастырь.
По окончании службы, выйдя из церкви, Софья обратилась к своим провожатым и начала им жаловаться, что Наталья Кирилловна всячески извести ее хочет, а Петр будто бы уже приказал своим потешным собираться и поведет их в Кремль умертвить ее, царевну, и царя Ивана.
– Если мы вам годны, – сказала в заключение Софья, – так стойте за нас и помогите нам, а не годны – то мы должны покинуть государство, должны бежать, спасать живот свой…
Она говорила убедительно. Слезы так и лились из глаз ее.
Некоторые из стрельцов были растроганы и ответили ей, что готовы исполнить ее волю.
– Спасибо вам, – заливаясь слезами, сказала Софья, – на вас только одна и надежда. Вы всегда были верными слугами и сами знаете, забывала ли я вашу службу, а впредь дожидайтесь от меня еще больших милостей: я в долгу не останусь. Теперь ждите повестки, извещу я вас через Шакловитого, тогда и начинайте. А теперь пойдите, расскажите все стрельцам своим, пусть они знают, пусть готовятся…
Сотники и пятидесятники вернулись в слободы, собрали полки и слово в слово передали стрельцам все, что говорила им царевна.
Несколько голосов закричало, что, точно, царевну нужно выручить, но большинство объявило:
– Не станем начинать дело по набату. Коли и впрямь грозит беда кому-либо из семьи царской, так пусть дело идет по закону, пусть дьяк думный скажет указ царский, то мы и пойдем, а без указа делать нам не годится, и мы не станем! Пускай хоть три дня бьют в набат – не тронемся, а коли все это доподлинно так, то надобно идти в Кремль и бить челом о розыске.
Тогда один из приверженцев Шакловитого, Стрижов, начал уговаривать, толковал, что ничего не выйдет из розыска.
– Чего вы еще медлить будете? Злодеи-то царевны ведь известны, так и принять их, а то не защитите царевну, схватят ее, всякое зло над ней сделают, тогда вам же хуже будет, без царевны не проживете – только ею мы и держимся. Царь-то Петр не больно нас, стрельцов, жалует. Напустит он на нас свое войско потешное да бояр с их людьми, так все мы помрем лютой смертью – об этом подумайте!
Но стрельцы не поддавались и на эти речи. Они стояли на своем, и поздно ночью Шакловитый явился к Софье с известием о полной неудаче.
Этого мало, в числе стрельцов нашлись люди, решившиеся немедленно отправиться в Преображенское и донести царю Петру обо всем, что творится. Петр сейчас же послал к Шакловитому с требованием отправить в Преображенское Стрижова.
Шакловитый смутился. Он понял, что между стрельцами есть доносчики, но Стрижова решился не выдавать.
Тогда Петр приказал арестовать самого Шакловитого. Его окружили в Измайлове, куда он было поехал, и привели к царю.
Софья, узнав об этом происшествии, пришла в неописанный ужас.
Она написала брату чрезвычайно ловкое и красноречивое письмо, в котором спрашивала, за что схвачен Шакловитый, и просила его выпустить.
Шакловитого выпустили.
Царица Наталья Кирилловна, все еще имевшая большое влияние на сына, не решалась действовать энергически. Ей до сих пор памятен был роковой 82 год, она до сих пор дрожала при виде каждого стрельца. Ей представлялась возможность нового стрелецкого возмущения, новых ужасов и убийств, очень легкой.
Так прошло еще несколько дней. Между тем и в Кремле, и в Преображенском начали находить подметные письма.
Боярыня Хитрая как-то, уже ночью, разбудила Софью, показала ей лист бумаги.
– Прочти, прочти, царевна, что тут такое, – говорила она испуганным голосом.
Софья принялась читать. В письме извещали царевну, что на следующую ночь придут потешные конюхи из Преображенского и побьют царя Ивана Алексеевича и всех его сестер.
– Откуда же ты это достала, Анна Петровна? – спросила Софья.
– А вот, государыня, стояла я у себя на молитве, вдруг слышу, как будто дверь скрипит. А дверь-то у меня на ту пору не заперта была, ну, я думаю, показалось мне это, и молюсь себе – ан слышу, нет – скрипит дверь, отворилась тихонько, да бумажка-то и просунулась. Я вскочила, схватила бумажку, отперла дверь: кто тут? – говорю, никто не откликается, а в переходе темно, страшно – зги не видно. Ну, зажгла я лампадочку, вышла – никого и нету! Прочла цидулу-то да так и ахнула… Вот к тебе прибежала.
Конечно, царевна не могла уже заснуть и рано наутро послала за Шакловитым. Ей и в голову не приходило, что весь рассказ Хитрой – чистая выдумка, что и письмо-то это подметное, безымянное, писала сама старая боярыня, чтоб напустить на всех страху, чтоб всех помучить, а самой полюбоваться на людские мучения.
Шакловитый, узнав в чем дело, тотчас же стал распоряжаться.
К вечеру он велел собраться в Кремле четыремстам стрельцам с заряженными ружьями, а тремстам другим велел стать на Лубянке. Трех своих денщиков послал в Преображенское выведывать, куда отправится царь и что станет делать.
Но вот приходит вечер: стрельцы в Кремль не являются; на Лубянке тоже тихо – тщетно сторонники Софьи, Гладкий и Чермный, уговаривают стрельцов. Только уже к самой ночи у Кремля показывается несколько отрядов, но стрельцы имеют самый унылый вид. Они никак в толк не могут взять, чего от них требуют.
– Защищать, что ли, мы будем али нападать должны? – толкуют они. – Коли защищать – выйдет усобица, драка, кровь… Нападать – опять то же; так нам не след в такое дело впутываться. Пождем маленько, постоим здесь да и по домам.
В это время в кремлевские ворота въезжает всадник. Стрельцы останавливают его, спрашивают, кто такой. Оказывается, спальник царя Петра, Плещеев, из Преображенского. Царь послал узнать, что такое в Москве деется: «Пришли-де в Преображенское из Москвы люди неведомые, говорят, стрельцы собираются».
– Ну вот, вишь ты, какое дело! – перешептываются друг с другом стрельцы. – Того и жди тут в бунтовщики нас запишут да и головы нам порубят. Идем-ка, братцы, по домам, так-то ладнее будет.
Но Гладкий, который еще утром объявил Шакловитому, что не успокоится, покуда не заварит настоящую кашу, в это время бросается на Плещеева, стаскивает его с лошади, срывает с него саблю, бьет его.
– Что ты? Что ты, опомнись, что ты делаешь? – кричат стрельцы, вырывая Плещеева из рук расходившегося Гладкого.
Но тот кричит на них:
– Не вступайтесь не в свое дело – видно, знаю, что делаю! Должен я вести его сейчас же наверх к Шакловитому да к царевне: пусть они решат, ладно ли я делаю, али нет. Коли нет, так перед ними и буду в ответе, а вы не мешайте, а вот лучше помогите мне вести его.
Стрельцы в недоумении. Двое из них с нерешительным видом исполняют приказание Гладкого. Плещеев, избитый, ошеломленный, ничего не понимающий, видит, что борьба невозможна, и позволяет вести себя.
Между тем один из стрельцов, Мельнов, видевший безобразную сцену с Плещеевым, выбежал из Кремля и спешил на Лубянку, где стояли стрельцы, по большей части преданные Петру.
– Вот на что нас подмывает Шакловитый, – говорил Мельнов. – Сами видите, кто бунтовщик и за кого нам стоять нужно.
– Да, да, дело ясное, – подхватили Елизарьев, Ладогин, Ульфов, Турка, Троицкий и Капранов, которые особенно уговаривали в последние дни стрельцов не поддаваться на увещания царевны и Шакловитого и тянуться к молодому государю.
Все эти стрельцы были люди молодые, еще не находившиеся в войске во время бунта 82 года; у них не было, следовательно, страшных преданий, связывавших их с правительством Софьи. Напротив, люди отважные и смелые, не чуждые также и честолюбивых планов, они давно уже с завистью посматривали на потешное Петрово войско. Они завидовали жизни потешников, любви к ним молодого государя. Им давно бы уж хотелось из стрельцов обратиться в потешных, но царь далек от стрельцов, не любит их. А вот тут является возможность сослужить этому царю большую службу, которой он, конечно, не забудет, за которую он наградит щедро.
– Да, дело-то уж не шутка, – заговорил опять Елизарьев, – избили царского стольника, до самого царя добираются. Ведомо ли вам, что Шакловитый послал в Преображенское лазутчиков, да и знаю я одного человека, которого он подговаривал извести государя. Мешкать-то нечего, нужно сейчас же кому-нибудь из нас гнать в Преображенское известить царя, что на него да на царицу умышляется смертное убийство.
– Да уж коли на то пошло, вестимо, нужно в Преображенское! – заговорили между стрельцами.
Мельнов и Ладогин вызвались ехать, сейчас же вскочили на коней и помчались в Преображенское.
XI
Все было тихо в Преображенском. В небольшом, далеко не роскошном доме, который именовался дворцом и где так часто и подолгу живал теперь Петр Алексеевич с матерью и молодой женою, все спали. Богатырский храп раздавался и кругом дворца из деревянных на скорую руку построенных бараков, вмещавших в себя потешное воинство.
Только незначительные патрули обходили время от времени царское жилище. Но не замечали эти патрули, что у перелеска, в частых кустах, доходящих до самого села и откуда, как на ладони, виден был дворец, засели какие-то люди. Люди эти были лазутчики Шакловитого. Им поручено было неустанно следить за каждым шагом царя, а наутро один из них должен был пробраться во дворец, переговорить с кумом своим. Этот кум принадлежал к царской дворне, и с помощью царевниных денег его можно было уговорить привести в исполнение страшный замысел – погубить царя и царицу тем или другим способом.
Лазутчики не спят, зорко поглядывают, хотя и плохо видно – ночь уже не июньская, на дворе август. Луны не видно, а звезды в глубине небесной без конца высыпали и горят-переливаются. Но не нарушают они своим трепетным и далеким светом мглы и темноты, в которые закутаны и лес, и село, и царские строения. Горят и переливаются звезды, и вдруг какая-нибудь из них сорвется с тверди небесной и, мелькнув серебряной нитью по небу, вмиг рассыплется и неведомо где исчезнет.
Только одно и развлечение лазутчикам – эти падающие звезды. Ночи впереди еще много, да и ночь-то холодновата, с ближнего болота туман стелется, сырость проникает, а согреться нечем: впопыхах забыли водку.
Но что это? По безмолвной и темной дороге от Москвы слышится конский топот. Лазутчики встрепенулись. Кто бы это мог быть?! Топот ближе и ближе. Почти мимо самых кустов к селу промчались два всадника. Вот они уже у ворот дворца, переговариваются с патрулем… Их впустили. Опять все тихо…
Крепко спит с молодой женою Евдокией Федоровной царь Петр Алексеевич. Душно в его опочивальне. Сбросил он с себя штофное одеяло, разметались по белым подушкам его кудри шелковые, глубоко дышит грудь молодецкая. Истомился, день-деньской работаючи, Петр Алексеевич; поздно домой возвратился, едва перекусил, выпил маленькую чарочку, подошел под благословение царицы-матушки да и завалился спать в опочивальне. И так уж спать хотелось, что почти не слышал он, не видел свою молодую царицу, Евдокию Федоровну. А Евдокия Федоровна говорила ему речи нежные, а потом осердилась не на шутку, что он на эти речи внимания не обращает, начала жалобы:
«Вот, мол, жизнь моя несчастная, целый-то божий день тебя не видно, а и вернешься на ночь глядя, так слова ласкового не скажешь, спать завалишься… Горькая я, несчастная!»
И заплакала царица, думая хоть слезами разжалобить молодого мужа. Но Петр Алексеевич уже спал крепко – не проняли его женины слезы.
Медленно, минута за минутой, крадется ночное время. Только вдруг тишина ночи нарушена каким-то движением. Вот слышно: ворота отпираются, слышны голоса людские, и все громче и громче эти голоса. Уже вблизи опочивальни раздаются шаги, отпираются двери, стучат, ходят, переговариваются.
Проснулась, приподнялась с подушек молодая царица. Глядит в темноту ночную, со страхом слушает.
– Что бы такое, господи, значило?
Будит мужа. Но крепок сон царский. Вот стучат в двери, слышно: «Отоприте!» Боже мой!.. Наконец Петр проснулся, вскочил с кровати, отпер двери, а перед ним царица-мать, за нею князь Борис Голицын со свечою в руках, а там и другие домочадцы и близкие люди. У всех испуганные лица, все кое-как накинули на плечи платье – видно, сейчас с постелей повскакали, стоя, тут же у царской опочивальни, одеваются.
– Что такое, что?
И слышится Петру:
«Два стрельца приехали с Москвы, спасаться нужно… На тебя, государя, да на царицу смертное убийство умышляется!..»
Петр вздрогнул. Но еще после сна крепкого прийти в себя не может, не знает, послышались ли ему слова эти страшные, или взаправду кто сказал их. A между тем вот уже явственно раздается голос Голицына:
– Шакловитый, известно по чьему наущению, в эту же ночь Преображенское поджечь задумал, а в переполохе и хотят учинить злодейство…
Петр очнулся.
– Бежать, бежать не медля!.. Нет, не дамся!
Он схватился за голову.
– Ведь вот тут в дом уже, может, забрались убийцы, может, поджидают… Теперь умереть!.. Матушка, жена! – крикнул он. – Одевайтесь все скорее!.. Войско… Пушки… Все к Троице, а я вперед!.. Я должен спастись… Иначе все погибло! За мною все!..
И он, себя не помня, как был в одной рубашке, выбежал из опочивальни, пробежал все дворцовые покои, на двор, на конюшню. Схватил первого неоседланного коня, вскочил на него и помчался из Преображенского.
Ночь начинала белеть. Сквозь мглу уже обозначились предметы. Лазутчики еще издали завидели человека на коне, в белой рубашке.
– Это кто же? Что за чудеса такие? Наверно, кого-нибудь схватили, вырвался кто-нибудь… Удирает! А ведь гляди-ка, гляди-ка, братцы, ей-богу, как есть раздет совсем, в одной рубашке, что за притча такая.
Вот всадник ближе, мчится что есть духу.
– Царь! Он, как есть он! – шепчут лазутчики. – Вся стать его!
Всадник в двух шагах от них. Они его окончательно узнали, сомнения быть не может.
– Ну так что же, чего же лучше… Взводи курок! Пали!
Один из лазутчиков уже приготовился было, выставил ружье, но другой сильно схватил его за руку:
– Стой! На царя-то! Да и кто это тебе приказывал, чтобы стрелять?!
Но все равно злодейство вряд ли могло совершиться – всадник был далеко.
Лазутчики снова притаились и ждали.
Через несколько минут показалось еще несколько всадников. Они спешат за первым – к лесу.
– Вестимо, в лес, – говорит один из них, – куда же иначе?.. В одной-то рубахе!.. Сейчас завернем в просеку и окликнем, ночь холодная, одеть его нужно скорей!..
Прошло с четверть часа – и все Преображенское в движении.
Мимо кустов катится карета с царицами, за каретой всякие экипажи, верховые люди, пушки, целые колонны потешных, которые обгоняют друг друга, спешат, забыв регулярный марш свой. Скоро совсем опустело Преображенское.
«Иди теперь – жги его!..»
Лазутчики обождали немного и бегом пустились в Москву донести Шакловитому о таких чудных действах.
XII
Часам к шести утра, совершенно изнемогая от усталости и волнения, прискакал Петр в Троицкую лавру в сопровождении постельничего Головкина, Мельнова и своего карлы.
Едва войдя в монастырское помещение, где постоянно останавливался, он бросился на постель и вдруг зарыдал.
Прибежавший к нему архимандрит лавры, Викентий, долго не мог добиться от него ни слова.
Наконец рыдания царя стихли, он заговорил; но речь его прерывалась неудержимыми слезами.
– Меня и всех моих извести сестра хочет, – говорил Петр, – нигде нет от нее защиты. Велела своим разбойникам-стрельцам поджечь Преображенское, едва выскочил… Укрой меня, отче, спаси!..
Архимандрит стал его успокаивать.
– Укроем, государь, здесь никто до тебя не доберется. Добрую мысль Господь вложил в тебя – поспешить в нашу святую обитель. Под покровом Сергия преподобного, великого чудотворца и молитвенника за землю Русскую, тебе нечего бояться… Не раз притекавшие сюда находили оплот твердый у Божьего угодника. Сам, государь, не хуже моего ведаешь, как обитель сия Русскую землю спасала, как враг приходил разорять ее и стоял у стен сих в неисчислимом, аки песок морской, множестве… и все же ни силою человеческою, ни силою дьявольскою не мог в нее внити, не мог предать храмы святые на разорение, мощи честные на поругание! И ныне, как и древле, встанет на защиту твою святой угодник Божий и не одолеют тебя под его защитою враги твои! Будь же спокоен, государь, уйми свои слезы, да потолкуем лучше, как и что делать.
Спокойная речь архимандрита, исполненная глубокой веры, славное прошлое Троицкой лавры, этой неприступной твердыни великого защитника земли Русской, Сергия, успокоили Петра. Его слезы остановились, временная слабость и сознание своей беззащитности исчезли. Он даже устыдился этой слабости, в глазах его снова блеснула смелая воля, и он уже не как испуганный ребенок, а как твердый, разумный муж начал толковать с архимандритом.
Он решил дождаться своих и немедленно послать к Софье требование, чтобы она выдала ему головою Шакловитого. Если она откажется – кликнуть клич по земле Русской, сзывать людей ратных и силою взять незаконно отнимаемое у него родительское наследие – Русскую землю, о которой он ежечасно помышляет, которой отдает всю жизнь свою, от которой не отступится ни за что в мире.
Через несколько часов в лавру уже въезжали царица Наталья Кирилловна с дочерью и невесткой, все приближенные Петра – потешные, а затем и из Москвы многие бояре, преданные царю, и стрельцы Сухарева полка.
Петру то и дело докладывали о прибывавших, и он все больше и больше оживлялся. Знать, не покинули его русские люди!
После вечерен у молодого царя собрался совет, в котором главное участие принимал князь Борис Голицын. Призвали также Мельнова и Ладогина, которые подробно объявили обо всех поступках Шакловитого. Они сказали также, что между стрельцами большинство на стороне царя и в числе его приверженцев также полковник Циклер.
– Циклер! – изумленно воскликнул Петр. – Я никогда не забывал этого имени… Я всегда считал его врагом своим. Я помню, хорошо помню его тогда, на Красной площади!..
Он невольно вздрогнул при этом воспоминании.
– Но если он одумался, если он остался мне верен теперь, то, конечно, я все забуду…
Мельнов объяснил, что Циклер человек, действительно, пользующийся большим влиянием между стрельцами, к тому же он все знает про замыслы Шакловитого и много нужного царю открыть может.
– А коли так, призову его сюда, пусть он мне служит, – сказал Петр.
На совещании решено было послать в Москву гонца и покуда требовать только разъяснения, по какому поводу был в Кремле и на Лубянке сбор стрельцов, а также присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами.
Вот уж и вечер. Бояре разошлись, князь Голицын отправился приготовлять на всякий случай монастырь к обороне.
Царица Наталья Кирилловна с молодою царевной и Евдокией Федоровной вернулись от всенощной. На всех трех лица нету, кажется, все слезы выплакали.
Старая царица уже не та, какою была в прежние годы. Нестарая по счету лет своей жизни, от вечных мучений, тревог и страшных воспоминаний, постоянно ее преследовавших, она глядит дряхлой старухой. Куда девалась вся чудная красота ее, которою, бывало, так любовался, от которой глаз не мог отвести покойный царь Алексей Михайлович. Совсем побелели ее густые русые волосы, все лицо в морщинах, под глазами круги темные, веки красны от слез: эти слезы всю жизнь не высыхали… Теперь уж нечего ждать от нее энергии – она вся надломлена, она может только плакать и молиться. И вот то и дело уговаривает она невестку не убиваться, успокоиться, подумать о младенце, которого она носит во чреве своем, но тут же сама и зальется слезами, и, глядя на нее, плачет, рыдает и Евдокия Федоровна.
Не знает царица Наталья Кирилловна, как и пережила она страшную ночь эту. Уж и то последние дни минуты спокойной не было – то тот придет, то другой придет, ужасы рассказывают, пугают; одна боярыня Хитрая чего ни насказала – страсть! Письма подметные стали находить в Преображенском… А тут только что, после долгой молитвы, заснула она, вдруг ломятся в двери, кричат: «Спасайтесь, спасайте государя!»
Не помня себя, вскочила царица – едва постельница на нее душегрею накинула – бежит к сыну, а у самой ноги подкашиваются, думает: «Жив ли уж? Не убили ли?» Нет, жив, слава богу! Да вот как выбежал он раздетый да ускакал от них, так совсем света невзвидела царица, мысли спутались. Говорят ей, она слышит, но не понимает, сама бормочет неведомо что. Да и тут, в святой обители, тут, конечно, меньше опасности, только враги-то лютые хитры, того и гляди заберутся… Не отошла бы вот от сына, так бы ежеминутно и прикрывала его своей материнской грудью. Да что с ним поделаешь? Заперся он с князем Борисом Голицыным, ни матери, ни жены к себе не пускает.
И точно, на ключ замкнул двери Петр Алексеевич, совещается с Голицыным.
– Нет, теперь довольно! Будет трусить. Как попомню о своей трусости, – говорит царь, – так стыдно глядеть на свет божий! Пора – я не ребенок… Хотели от меня отделаться, так заранее бы изводили, а теперь даром не дамся! Не отпустит Шакловитого, сам на Москву пойду со своими потешными, посмотрю, как народ встретит царя своего… Красно умеет говорить Софья народу, авось и я в карман за словом не полезу – а дело мое правое!.. Если завтра к полудню не будет Шакловитого, сейчас же в Москву иду!
– Не торопись, государь, – стал его уговаривать Голицын, – обождать нужно. У нас теперь еще мало силы, мало войска, пожди, подойдут. Да вот еще брата Василия следовало бы сюда выписать.
– Василия! Ее пособника, ее друга!.. Опомнись, князь, – воскликнул Петр, и глаза его вспыхнули гневом. – Василия мне не надо, обойдусь и без него.
– Нет, он тебе нужен, очень нужен, – тихо и спокойно ответил Голицын, – не потому говорю, что он мне брат двоюродный, да и тебе, государь, не след на него сердце иметь, что ж, что он ее пособник…
– А Крымский поход? – перебил Петр. – Я этого позора Голицыну никогда не забуду.
– Да, большая ошибка… – в раздумье продолжал князь Борис, – большая ошибка… Но ведь брат и сам очень хорошо ее понимает. Намедни говорил со мною, побледнел весь, на глазах слезы… Что ж, государь, кому в жизни не приводилось ошибаться? Очень-то строго не суди. А брата Василия непременно нам нужно. Врагом тебе он никогда не был, ни в каких против тебя замыслах не участвовал, а человек он разума великого.
Петр, привыкший глядеть с уважением на князя Бориса, замолчал, начал его внимательно слушать. Кончилось тем, что он уполномочил его звать Василия Васильевича к Троице, обещал, что примет его отлично и зла на него никакого держать не будет. Князь Борис тотчас же распорядился, написал длинное послание брату и отправил к нему с этим посланием ловкого подьячего.
Но прошел день: Шакловитого не выдают, Василий Васильевич не едет.
XIII
Москва в волнении. По всему городу молва разносится, что началась великая усобица между братом и сестрою. Опять, как и семь лет тому назад, собирается народ московский, толкуют… Но мало голосов слышится в пользу Софьи: народ стоит за справедливость, за законность.
Правила царевна государством, пока царь не вырос, теперь он вон какой, головой выше всех бояр стал, так ему и быть настоящим царем, а царевнино дело кончено.
В Кремле, на Верху, полное уныние. Царевна приказала запереть наглухо все кремлевские ворота и пропускать только самых близких к ней лиц. Сначала она старалась казаться спокойной. Узнав от Шакловитого об отъезде царя к Троице, она вышла к стрельцам и объявила им, что если б они не остерегались, то всех бы их передавили потешные конюхи. Шакловитый тоже бахвалился и кричал: «Вольно же ему взбесяся бегать!» Но это было при народе, а у себя в покоях царевна с Шакловитым не скрывались друг перед другом: оба они хорошо видели, что дело принимает очень опасный для них оборот.
Вот прибыли от Троицы Петровы посланцы с запросом царю Ивану и Софье: за каким делом были стрельцы собраны ночью?
Царевна велела сказать брату, что она собралась в монастырь на богомолье и стрельцы должны были провожать ее. Относительно присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами долго она не могла решиться, но Шакловитый присоветовал ей согласиться на это требование. Хоть ему и доносили уже о том, что Циклер не его сторону держит, но он еще не верил этим доносам, да и решил, что пятьдесят стрельцов не бог весть какая сила, послать их можно.
Циклеру разрешено было отправиться, и он поехал к Троице. Ему сопутствовали Елизарьев и Турка с товарищами.
Но вот является требование о выдаче Шакловитого, и тон этого требования ясно показывает Софье что теперь с братом легко не справиться, что он начал борьбу не на шутку.
О выдаче единственного безгранично преданного ей человека и речи быть не может – но что же делать? От всех этих тревог разум мутится; нужно посоветоваться с Василием Васильевичем… И забыв свою ссору, забыв проклятия, в безумную минуту призванные ею на голову любимого человека, она шлет за Голицыным. Голицын не появляется. Целый день проходит – его нету.
Узнав обо всем происшедшем, Василий Васильевич написал брату Борису письмо, в котором просил его не допускать дело до кровопролития, просил примирить обе стороны.
В ответ на письмо он получил уже известное нам предложение брата ехать к государю в Троицкую лавру. Подьячий, присланный князем Борисом, пустил в ход все свое красноречие, уверяя, что со стороны Петра его ожидают всякие милости.
Голицын слабо и печально усмехнулся на слова эти. Все эти последние дни, после ужасного свидания с царевной, Василий Васильевич не выходил из дому. Много он думал и передумывал, постарел весь и сгорбился от бессонных ночей и никому неведомых тайных страданий. Он мог примириться с кознями врагов своих, мог примириться с печальной участью, его ожидавшей в случае падения Софьи; но с тем ударом, который нанесла она ему, он не был в силах справиться. Однако измученный и оскорбленный ею, хоронящий свою любовь и счастье, он ни на минуту не допустил возможности идти к врагам Софьи.







