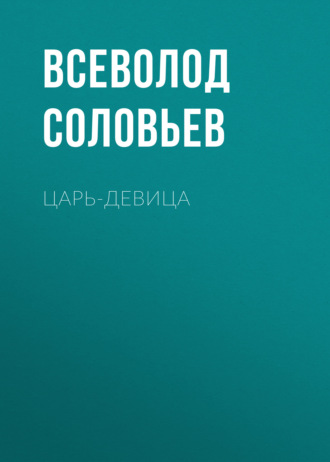
Всеволод Соловьев
Царь-девица
А в то время, как слабая надежда загорелась на лицах приближенных Натальи Кирилловны, в тереме, в покоях царевны Софьи шло совещание между нею, Милославским и Тараруем, который уже успел незаметно сюда пробраться.
– Так ты говоришь, князь, что они завтра непременно вернутся? – спрашивала Софья Хованского.
– В этом будь покойна, государыня, – отвечал он, – не уйдут без Нарышкина. Разве они теперь успокоятся до тех пор, пока не увидят, что могут делать, что им угодно?! Ведь они теперь говорят между собою, что если царевич Иван и жив, то все равно при Нарышкиных недолго жить ему – это у них засело крепко. Конечно, с такими олухами можно бы и справиться, что-нибудь придумать для их успокоения, но кто же станет придумывать, не мы же с Иваном Михайловичем?!
– Еще бы! – прошептал Милославский. – Я не жив, пока не кончили с Нарышкиными. На полпути нечего останавливаться.
– В этом я с вами согласна, – тихо проговорила царевна, – я только боюсь новых ненужных убийств. Да и, наконец, вы сами вчера видели, на что они способны: ведь настоящими зверьми делаются. Дойдут они до такого остервенения – и мы все в опасности!
В эту минуту вошел Василий Васильевич Голицын. Он был бледен, лицо его показывало глубокое душевное волнение. Мрачно взглянул он на Хованского с Милославским.
– Пора остановиться, бояре, – проговорил он. – Уймите стрельцов – это в вашей власти. Зачем нам еще кровь Нарышкиных? Теперь все равно враги в наших руках, Матвеева нет…
И, не смущаясь пытливым, злобным взглядом Хованского, Голицын громко вздохнул и перекрестился.
– Матвеева нет, – продолжал он, – и нам некого бояться. Нарышкины бессильны, да и разослать их можно по дальним городам…
– Нет, князь, нет, нет, воля твоя, ты не так толкуешь, и уж с Иваном-то Кирилловичем во всяком случае нужно покончить.
– Не понимаю, чего это вы так на него напираете, отчего вам кажется страшен этот мальчишка? Он задорен – и только. В народе его не любят, на хитрость он не способен – его Господь разумом обидел, напрасно только вы запачкаетесь в крови его, да запачкаете и царевну. Подумайте-ка хорошенько, да и потолкуйте со стрельцами.
Софья не говорила ни слова. Она сидела задумавшись и только изредка взглядывала на своего друга.
Она умела читать в лице его и теперь видела, как что-то мучительное и тяжелое ложится между ним и ею. Вот ведь его глаза останавливаются на ней безучастно и холодно, немой упрек в его взгляде… К тому же он прав.
– Уговорите стрельцов, – сказала она своим советникам. – Князь Василий правду сказал, можно обойтись без нарышкинской крови, пускай стрельцы требуют их заточения по монастырям, удаления навсегда из Москвы, но не казни. А то так просто дайте им возможность убежать отсюда. Вам легко, под каким-нибудь предлогом, отвлечь внимание одного из караулов… Пусть они бегут.
– Нет, это неладно! – решительно заговорил Милославский. – Дело делать, так делать до конца и робеть нечего. Одною лишней головой можно поступиться… Я бы пальцем не шевельнул для Нарышкиных.
– Сам бы я пошел к ним, – раздумчиво сказал Голицын, – да толку из этого не выйдет, меня и не послушают, пропаду только даром.
– Господь тебя сохрани, еще что надумал! – испуганно вскрикнула царевна. – Нет, ты в это дело не вмешивайся: как сначала был в стороне, так и оставайся!
Она снова стала уговаривать Хованского последовать совету Голицына.
Тот даже обещал ей потолковать со стрельцами, но в то же время подмигнул Милославскому, давая ему знать, что ровно ничего не сделает.
Когда царевна их отпустила от себя, удержав Василия Васильевича, они порешили не допускать никаких послаблений.
– Вот еще нещечко навязался, – ворчал Хованский. – И зачем это он сюда явился? Сидел он на Украине. Сам палец о палец не ударил, а, чай, заранее уже наметил себе первое место. И еще человеколюбцем прикидывается, вишь ты, крови не нужно! Ну, да это еще посмотрим, как он займет первое место, по времени и с ним можно будет справиться…
XV
Прошел весь день, прошла ночь, прошел даже и роковой час утра, в который уж два раза собирались мятежники на Красной площади, а в Кремле покуда все еще тихо.
Но вот к царице бежит старый князь Одоевский с ужасною вестью: стрельцы опять идут.
Все Нарышкины и сын Матвеева Андрей Артамонович переполошились и кинулись прятаться. Сначала замкнулись в комнате маленькой дочери царицы, царевны Натальи Алексеевны, но тут было опасно. Куда деваться?
– Ко мне идите, ко мне! – запыхавшись говорила, выбегая им навстречу из своих покоев, вдова-царица Марфа Матвеевна. – Моя постельница вас спрячет.
Нарышкины кинулись в покои царицы. Постельница провела их в темный чулан, завалила перинами и подушками, а дверь чулана нарочно оставила отворенною.
Тараруй был опять на площади и, вместо того, чтоб уговаривать стрельцов, твердил им:
– Теперь уже не уходите, добивайтесь Нарышкина, а не выдадут, так прямо и хватайте царицу – и впрямь, видно, она заодно с изменниками!
Стрельцов нечего было разжигать – они и без того ломились во дворец и неистово кричали:
– Подавайте нам Нарышкина, без него не уйдем! Коли главный изменник жив останется, где же наша служба царскому дому?
На этот раз даже царевна Софья испугалась.
Милославский сказал ей, что он с Хованским уговаривали стрельцов, что Хованский и теперь на площади, но что ничего нельзя сделать – теперь никто не может сговорить с ними. Остается одно, скорей исполнить их требование.
Царевна отправилась к Наталье Кирилловне.
– Что ж это, матушка, – сказала она резким голосом, – долго ли нам мучиться, долго ли ежеминутно себе смерти ждать? Ведь уж не отбыть твоему брату от стрельцов, так выдай его – не погибать же нам всем за него!
Наталья Кирилловна ничего ей не ответила, только сверкнула на нее глазами.
Но Софья говорила громко. Ее слова слышали все бояре, бывшие с царицей.
– Царевна правду молвила, – стали толковать они, – лучше одному погибать, чем всем.
Некоторые из бояр подошли к царице, поклонились ей до земли и со слезами стали просить ее выдать брата.
– Государыня, – говорили они, – перемоги сердце свое ради своего же спасения, ради спасения всего рода царского, ради всех нас, верных и преданных слуг твоих!
– Чего вы от меня просите!.. – в отчаянии, ломая руки, говорила царица. – Сами посудите, могу ли я выдать брата? Боже мой! Одного уже отняли, убили безвинно Афанасия… Так довольно и этой муки… На всю жизнь хватит… Чего просите! Ведь еще жива я, еще бьется мое сердце, так как же хотите, чтоб я отказалась от своего единокровного и единоутробного брата?
Но бояре продолжали настаивать. Каждому из них была дорога своя жизнь, и никто не мог найти иного средства к спасению, кроме выдачи Нарышкина.
Стрельцы все больше и больше неистовствовали, все громче кричали. Медлить было невозможно.
– Матушка, – снова возвысила голос царевна, – не будь причиною гибели многих, ни в чем не повинных. Или не видишь, как стрельцы освирепели, – они сделают, как говорят… Никто из нас не избежит смерти… Решайся же… перейди с братом в церковь Спаса… Помолимся все, да и пусть выйдет он к ним, а в руки ему дай образ Богородицы, быть может, это спасет его, быть может, мятежники и устыдятся перед святынею!
В этих последних словах царевны для Натальи Кирилловны прозвучала слабая надежда. Но не могла же она произнести своим собственным языком отречение от брата.
– Оставьте меня! Оставьте! Делайте, что хотите, – задыхаясь, прошептала она и упала на колени перед образами, инстинктивно закрывая глаза, затыкая себе уши руками, чтоб ничего не видеть и не слышать. Бояре почти на руках снесли ее в церковь Спаса за Золотой решеткой, отправились в тот чулан, где скрывались Нарышкины, и объявили Ивану Кирилловичу всеобщее решение.
Несколько мгновений он не подавал голоса, но вот, наконец, вышел к боярам, шатаясь, с искаженным лицом.
– Божья воля! – сказал он. – Ведите меня на казнь! Я не противлюсь.
Иван Кириллович был еще совсем молодой человек. Рослый, здоровый, красивый, веселого нрава, до сих пор он помышлял только об удовольствиях. Вся жизнь представлялась ему в праздничном виде, никогда его мысли не останавливались на чем-нибудь серьезном, никогда он ни над чем не работал. Да и зачем было ему работать – все так легко ему давалось. Любимый брат царицы, он едва достиг двадцати трех лет и уже был сделан боярином; денег у него куры не клевали; веселых друзей-товарищей – целая орава. На конюшне коней и не сосчитаешь; всякого драгоценного оружия, серебра да золота – видимо-невидимо – над чем тут задумываться?
Его обвинили перед стрельцами в том, что он царское семейство извести хочет, хочет сделаться сам царем и уж надевал на себя корону. Это была клевета – никогда Иван Кириллович и не помышлял ни о чем подобном. Правда, он от души радовался и торжествовал, когда избрали на царство его племянника, Петра Алексеевича; правда, что шутя и играя с мальчиком, он однажды возложил на него корону, нарядил его в полное, торжественное облачение царей русских.
Маленький Петр был очень забавен в этом одеянии; вся детская курчавая головка его ушла в корону, так что из нее выглядывал только кончик носа. Иван Кириллович начал смеяться, шутить.
– Какой, – говорит, – ты царь, Петруша, как увидят тебя, так и начнут пальцем показывать, мол, то обезьянка заморская, а не царь, такого еще у нас не бывало! А вот постой, погоди, дай-кось я тоже царем наряжусь!
И, чтоб позабавиться и подразнить ребенка, он надел на себя корону, взял скипетр и стал перед племянником в горделивую позу.
– Ну, смотри, вот я царь так царь! Вот меня увидит народ, так в ноги мне поклонится – так-то!
Он смеялся, смеялся Петр Алексеевич, цепляясь за молодого дядюшку и отнимая у него свою корону.
Эту сцену подглядели недруги и из невинной игры выросла клевета, которая теперь погубила Ивана Кирилловича. Ему нужно расстаться с молодой, привольной жизнью, идти на казнь смертную, на лютые мучения… А жить так безумно хочется – жизнь так прекрасна, так все улыбалось до сих пор, и впереди были одни только радости. Умирать нужно, да и как умирать-то: не мгновенною неожиданною смертью, которую не заметишь и не почувствуешь, пожалуй, а идти на смерть, знать, что впереди, близко, сейчас ждет что-то страшное, безобразное, отвратительное.
Подкосились ноги у Ивана Кирилловича, зашатался он, чуть не упал, но бояре его поддержали.
– Что ж делать-то, боярин, – расслышал он, – что ж делать-то, не гибнуть же нам за тебя за одного. Они-то, вишь, грозятся всех перебить, коли тебя не выдадим.
Иван Кириллович поднял побледневшее лицо свое, взглянул на всех помутившимися глазами, и каждый прочел в этом взоре себе укоризну, и у каждого невольно опустились веки.
– Ведь я иду, иду на смерть, так чего ж вам еще? Молчите – мне нечего вас слушать! Дайте только проститься с сестрою…
Нарышкина повели в церковь Спаса, где уже находилась царица, царевна и многие вельможи. Наталья Кирилловна, лежа на полу церковном, горячо молилась и рыдала. Она не в силах была поднять глаз на брата, обвиняя себя в малодушии, считая себя его убийцей и в то же время зная, что борьба для нее теперь невозможна.
Нарышкина наскоро исповедали, приобщили, отсоборовали. Он был тверд, ни звуком не выказал своих мучений и отчаяния. Когда бояре шепнули ему, что все теперь кончено и медлить нечего, он подошел к сестре. Наталья Кирилловна продолжала молиться и ничего не слышала. Но вот над самым ее ухом раздался страшный голос:
– Прощай, государыня-сестрица! Иду на смерть без страха и желаю только, чтоб кровь моя была последнею, пролитой ныне!
Она обернулась, безумно вскрикнула, поднялась на ноги, бросилась на шею Ивану Кирилловичу да так и замерла, не имея силы выговорить слова и только покрывая его лицо горячими поцелуями.
– Ванюша, родной мой! – наконец заговорила она. – Ванюша, не я выдаю тебя, все того требуют!.. Но ведь же… Нет, я не могу с ним расстаться!..
И она опять его целовала и не выпускала из своих объятий.
Эта раздирающая сердце сцена продолжалась слишком долго, а стрельцы не унимались, неистовствовали.
Князь Одоевский подошел к царице и сказал испуганным голосом:
– Сколько вам, государыня, ни жалеть, а все уж отдать придется, а тебе, Иван, отсюда идти надобно, а то нам всем придется погибнуть из-за тебя.
Иван Кириллович вырвался из объятий сестры и, махнув рукою, шатаясь, как пьяный, направился к двери, держа перед собою образ Богородицы.
Наталья Кирилловна кинулась было за ним, но ее силою удержали бояре.
В ту же минуту слетели с петель церковные двери, и толпа стрельцов ворвалась на паперть.
Только что завидели мятежники Нарышкина, как с диким, нечеловеческим воплем на него кинулись и вырвали из рук его образ.
Он перекрестился – он ждал, что вот, вот сейчас… Но стрельцы его не убили, а повлекли сначала в Константиновский застенок и стали пытать. Ему читали вины его: измену, посягательство на жизнь царевича, желание самому быть царем и многое другое. Страшным пыткам подвергли его и ждали, вот он не стерпит, во всем признается, и его признание всех их оправдает, оправдает мятеж, потоки крови…
Но Нарышкин не произнес ни слова. Изнеженный, разгульный юноша, теперь он превратился в героя. От страшной боли искажалось все лицо его, холодный пот градом катился по лбу, волосы вставали дыбом, но из груди его не вырвалось ни звука, только страшно скрипели его стиснутые зубы.
И долго тянулась пытка, но наконец палачи убедились, что ничего не добьются. Тогда почти бесчувственного, окровавленного Ивана Кирилловича вытащили на Красную площадь и изрубили.
XVI
Страшное убийство Ивана Нарышкина было еще не последним; вслед за ним стрельцы схватили иностранца, медика Данилу Гадена, обвиненного ими в чернокнижии и отравлении царя Федора.
Этот несчастный Гаден еще 15 мая, при самом начале возмущения, оделся нищим и убежал из Немецкой слободы в Марьину рощу. Двое суток скитался он без пищи, но голод принудил его возвратиться в слободу. Стрельцы его узнали, схватили и притащили во дворец. Напрасно царевны и царица Марфа Матвеевна умоляли их отпустить доктора, уверяли, что он неповинен в смерти царя, что он на глазах их каждый раз пробовал лекарство – ничего не помогло! Стрельцы кричали, что Гаден чернокнижник и что у него дома нашли сушеных змей.
Его повели в тот же Константиновский застенок, где пытали Нарышкина. На орудиях пытки еще не засохла кровь несчастного Ивана Кирилловича.
«Авось хоть этот повинится!» – думали стрельцы, и на этот раз ожидания их оправдались. Немецкий доктор не обладал мужеством Нарышкина. С первой же пытки он начал на себя наговаривать, признаваясь во всевозможных нелепостях и, наконец, стал кричать, чтоб дали ему три дня сроку и он укажет всех, кто виноват еще больше его.
Но стрельцам некогда было ждать, они и так были довольны его признанием, вытащили его на Красную площадь и умертвили.
Данило Гаден был последней жертвой; стрельцы угомонились. Их руководители были довольны – страшное дело удалось вполне. Теперь оставалось довершить его достойным образом: приготовить себе полнейшее торжество. Но для этого уж не требовалось оружия, не требовалось крови…
Хованский и Милославский весь вечер 17 мая провели в стрелецких слободах, а на следующий день войско в четвертый раз появилось перед дворцом, но уже без оружия.
С тихим и смиренным видом стрелецкие выборные просили позволения бить челом государю и царевнам.
Конечно, им это разрешили; и вот они стали просить, чтобы государь указал постричь своего деда, Кирилла Полуектовича Нарышкина.
Эта почтительная просьба властителей-стрельцов была немедленно исполнена. Царица Наталья Кирилловна уже не имела никаких сил для борьбы – она была одна… Самые близкие, дорогие убиты, на руках малолетний сын, жизнь которого при малейшем неосторожном шаге ее могла подвергаться опасности; кругом со всех сторон страшные лютые враги: Милославские да царевны – она могла только плакать, молиться и безропотно покоряться стрелецкой воле.
Стрельцы признавали царем Петра; ему приносили челобитные, он царь, следовательно, мать его, при его малолетстве, правительница – но теперь это было только на словах. В действительности не было царя и царицы, был один только торжествующий, распоряжающийся терем, во главе которого стояла Софья. Теперь она принимала стрельцов, выслушивала их и полагала решения на их просьбы.
Ежедневно у нее происходили совещания с Хованским, Милославским и главнейшими из начальников стрелецких. На этих совещаниях решалось, о чем должны просить стрельцы на следующий день, и стрельцы являлись к царевне с этими просьбами, ею же им продиктованными.
Вслед за пострижением Кирилла Полуектовича стрельцы потребовали ссылки Лихачевых, Языковых, всех Нарышкиных без исключения, Андрея Матвеева и многих других – одним словом, тех людей, которые имели несчастье возбудить в себе нерасположение царевны.
Но были у стрельцов и такие челобитные, которых им не диктовала Софья; так, например, они просили о том, чтоб им выданы были заслуженные ими деньги с 1646 года. Сумма выходила большая, до двухсот тысяч рублей, да кроме того, нужно было пожаловать им по десяти рублей на человека.
Софья сильно рассердилась, узнав об этом непредвиденном и несоразмерном требовании, но поняла, что отказать стрельцам нет возможности. Между тем денег в казне столько не было. Их нужно было собрать со всего государства; пришлось и серебряную посуду перелить на деньги.
Вслед за этим требованием денег стрельцы просили царевну, чтоб им дано было название «надворной пехоты». И эта просьба была немедленно исполнена.
В стрелецких слободах были довольны щедростью царевны; там шло великое ликование, там в награбленной и золотой посуде распивались награбленные иностранные вина; на стрелецких женах, дочерях и сестрах красовались привозные дорогие ткани, каменья самоцветные, жемчуга из заветных хранилищ царских теремов и разметанных домов погибших бояр.
Привольно было стрельцам, ни в чем нет запрета – и они ликовали и продолжали хозяйничать в городе. Разбили и приказы: Холопий да Судный, разорвали и сожгли крепостные записи, тяжебные дела, освободили всех колодников и объявили волю холопам. Только странное дело – громадное большинство слуг боярских не пожелали воспользоваться дарованной им стрельцами волею и нередко старались образумить и укротить мятежников.
Стрелецкие руководители несколько дней молчали, дали стрельцам попировать и нагуляться, а потом повели их снова на Кремль.
Тараруй торжественно, в присутствии многих бояр, окольничих и думных людей, доложил царевне, что стрельцы и весь народ Московского государства желают, чтобы по справедливости царствовали оба брата, Иоанн и Петр Алексеевичи. «В противном случае, – прибавлял он, – они грозятся новою смутой и новым кровопролитием».
Царевна обратилась к окружавшим и начала спрашивать их мнение.
Все было заранее подготовлено. Друзья царевны на этот раз отличились необыкновенным красноречием. Все они твердо знали заданный урок и рассыпали непреложные доказательства полезности этого двоевластия, приводили исторические примеры, говорили о Фараоне и об Иосифе. Даже Василий Васильевич Голицын, возбуждаемый горячими и нежными взглядами царевны, напомнил про Аркадия и Ганория, про Василия и Константина…
Стрельцам недолго пришлось ждать ответа на их челобитную. И часу не прошло, как вышел к ним тот же Тараруй и объявил решение бояр: «Быть обоим братьям на престоле…»
Раздались на всю Москву громкие удары большого колокола. Духовенство отправилось в Успенский собор петь молебны и возгласило многолетие благочестивейшим царям, Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу…
Торжествующая, отуманенная исполнением своих заветных замыслов, возвращалась царевна Софья в терем. Ее встречали улыбки, льстивые поздравления ближних боярынь и многочисленных теремных жилиц, и она ласково и милостиво в свою очередь всем улыбалась. Она знала, что сегодняшнее торжество еще не кончено, что ему предстоит на этих же днях и уже полное завершение. Она знала, что еще раз стрельцы и народ московский явятся ко дворцу и будут просить ее, ввиду малолетства братьев, принять на себя управление государством.
Пульхерия Августа, про которую говорил «милый друг Васенька» и которая давно уж грезилась царевне, возрождается на земле русской! Пришло-таки это блаженное время; все старое горе, все старые опасения, тяжелая, страшная борьба окончены, и следа от них не осталось…
Счастье и слава!.. О, как привольно дышится, как весело теперь смотрят эти низенькие, причудливо изукрашенные покойчики, по которым идет царевна в тихий приют своей рабочей комнаты.
Мягкие, горячие краски наступающего вечера на все кладут какой-то таинственный отпечаток, сглаживают и изменяют формы предметов. И не узнает царевна с детства знакомой обстановки. Ей кажется, что раздвигаются перед нею стены, что шествует она, гордо неся свою прекрасную голову, по какому-то чудному, сотканному из золота и самоцветных камней пути, а перед нею храм славы, где высится престол, ею воздвигнутый.
Среди этих грез, вся объятая сознанием своего величия и счастья, вошла она к себе и затворила за собою двери. И вдруг лицом к лицу восстала перед нею какая-то неведомая ей высокая женская фигура. Разлетелись грезы царевны.
– Кто это? – спросила она, невольно отшатнувшись.
Лицо неведомой женщины было покрыто фатою. Изодранная, местами запачканная кровью одежда была на ней.
Вот бледная рука страшной гостьи сорвала с лица фату: перед царевной Люба Кадашева.
Но, боже, как она изменилась: сразу и узнать ее невозможно! Куда девались нежная юность и свежесть ее лица прелестного? Куда девались знойный румянец, блеск черных глаз с поволокою? Тусклы и страшны теперь глаза эти; смертельная бледность покрывает щеки; многими годами состарилась Люба, и ничего не осталось от прежнего ее оживления: будто мертвец перед царевной.
– А, это ты! – помимо своей воли теряясь, проговорила Софья. – Но в каком ты виде, как ты ужасно изменилась! Откуда ты? Что было с тобою?.. Поди переоденься… На тебе кровь, лохмотья… Как смела ты явиться ко мне в такой одежде?
– Мне некуда идти переодеваться, – отвечала Люба глухим голосом, – я пришла навсегда проститься с тобою, царевна…
– Что это значит? Что за выдумки? Как ты говоришь со мною и о чем говоришь ты?..
«Она сошла с ума, – подумала Софья, – но что было с нею? Надо узнать!»
А Люба стояла и странно усмехалась…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – наконец заговорила она, – ты думаешь, что я безумная. Нет, ошибаешься, царевна, – я была безумной, всю жизнь была безумной… Но теперь-то просветлел мой разум, ты меня вылечила… И вот я пришла проститься с тобою… сказать тебе одно слово…
Царевна молчала. Ее тянуло к себе с неотразимою силою это страшное, непонятное лицо Любы, и она глядела на него не отрываясь. И в то же время ей становилось как-то жутко, так, что даже холод пробегал по ее членам.
– Немного прошло с того времени, – продолжала Люба, – как я, глупая, безумная, позабыв все на свете, бежала к тебе. Ты приняла меня, задарила, заласкала… и кабы знала ты, кабы ведала, как дорога ты была мне! Страшно подумать; заместо Бога я тебя почитала!.. На тебя я молилась, ты казалась мне небесным жителем, за тебя я готова была идти на лютые мучения!.. Сколько слез по ночам пролила я о твоем горе-несчастье, про которое ты мне говорила… Но вот, царевна, ты теперь и счастлива, – но знаешь ли ты, как и откуда к тебе пришло это счастье? Да, знаешь, что оно добыто кровью людей невинных! Ты глядишь на меня и видишь на мне лохмотья, кровь… А я на тебе вижу больше крови – ты вся в крови! Все лицо у тебя в крови! Кровь из губ сочится… Ты упилась ею, ты ее захлебываешься!.. Много… много на тебе крови, и ничем ты ее не смоешь!.. Царевна, без числа всяких ужасов навидалась я… Но ничего страшней тебя не видела… Так не думай же, что ты счастлива, что все твои пожелания исполнены. Ничего не исполнено – отныне лютая жизнь твоя начнется, и конца ей не будет. Где бы ни была ты, везде – и на царском престоле – за тобою будут стоять мертвецы кровавые. Никуда не убежишь ты от них… Смотри, вот они… здесь, кругом тебя… Мне тяжко, мне страшно глядеть на них, а на тебя глядеть еще страшнее!.. Я бы никогда и не пришла к тебе, если бы не вспомнила того первого дня, когда тебя увидела, того дня, когда на тебе еще не было крови, и когда ты казалась мне ангелом… Я пришла тебе сказать, царевна: одно только есть для тебя спасение – брось все, беги!.. Беги к Богу… Молиться! Молись дни, молись ночи, Бог милостив; может, видя твое великое покаяние, отведет он от тебя страшных покойников… Молись, молись о них, невинно убиенных тобою!..
Царевна стояла неподвижная и бледная… Она хотела говорить – ее язык не слушался. В голове у нее мутилось, вот она уж ничего не понимает, не слышит слов Любы, да Люба и кончила и тихо вышла из покоя царевны.
Прошло несколько мгновений, Софья опомнилась, кинулась к двери, бежит по теремным переходам…
– Ловите безумную, ловите! Не выпускайте из терема!.. – кричала она.
Со всех сторон сбежались женщины.
– Кого ловить? Кого, царевна? Про кого говоришь ты?
– Кадашева, Кадашева здесь была… Куда она скрылась? Ищите, ловите ее, приведите ко мне!
Но никто не видел Любы. Она успела незаметно скрыться из терема.
Царевна опять вернулась к себе и силилась отрешиться от страшного впечатления, произведенного на нее этой неожиданной, непонятной сценой, силилась забыть и Любу, и ее слова безумные.
– Мало ли что она говорит, сумасшедшая девка! – успокаивала себя царевна, и начинала она думать о торжестве своем, о счастье, которое ей улыбается. Старалась воротить прежние светлые мысли, с которыми за несколько минут входила в свои покои. Но прежние светлые мысли не возвращались.
Мучительный страх охватил царевну. Она невольно оглядывалась в вечерних сумерках, и все ей казалось, что она окружена какими-то призраками. Вот эти призраки начинают воплощаться, яснее и яснее вырастают они перед нею, она узнает их, узнает каждого. Вот перед самым лицом ее из полумрака выделяется седая голова с длинной и белой, как шелк, бородою, открываются тихие разумные очи Артамона Сергеевича Матвеева…
Бежит царевна в угол, под образа, хочет молиться, но нет для нее молитвы. Ей чудится, что кровь наполняет комнату…
И эта кровь поднимается выше и выше, хлещет на царевну теплой, страшной, красной волной…
– Что ж это, я схожу с ума?! – отчаянно вскрикивает она. – Нет, видно, здесь очень душно, воздуху мало!..
Она спешит к окошку, отворяет его, дышит полной грудью. Вечер теплый и ясный. Кругом тишина. Молодая луна поднимается из-за стены кремлевской. Внизу, под окнами терема, душистые кусты…
Но царевна с диким криком захлопывает окошко и от него отбегает. Вдруг среди благоухания тихой летней ночи на нее пахнуло смрадом, и она поняла, откуда этот запах. Он с Красной площади, где еще не успели прибрать хорошенько куски гниющего человеческого мяса, где еще все камни обрызганы кровью и мозгом…







