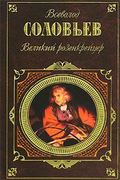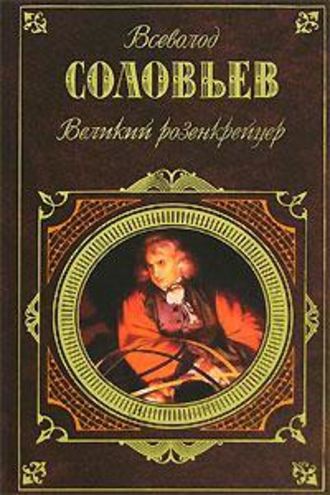
Всеволод Соловьев
Великий розенкрейцер
IV
Отец Николай, погруженный в свои мысли или, вернее, в духовное приготовление к той борьбе, которая его ожидала, совсем не заметил дороги. Метлина, видя его молчаливость и задумчивость и инстинктивно замечая его состояние, не развлекала его разговором. Но дорога показалась ей длинной.
Что-то там происходит? Она уж даже раскаивалась, зачем оставила дочь одну. Ведь она могла написать отцу Николаю, попросить его приехать, и он не отказал бы ей. А теперь мало ли что могло случиться с Катюшей, ведь прошло сколько времени… Но она возвращается с отцом Николаем. Бог милостив!..
Эта мысль ее успокаивала, и она принималась про себя горячо молиться за дочь.
Наконец доехали. Вот они у двери. Дверь им отворяла Зина. В этом, собственно говоря, для Метлиной ничего не могло быть странного: Зина нередко посещала их и старалась, хотя до сих пор и безуспешно, сблизиться с Катюшей, развлечь ее, помочь ей выйти из странного состояния, в котором она находилась. Но, взглянув на лицо красавицы камер-фрейлины, Метлина невольно вздрогнула.
– Зинаида Сергеевна, голубушка вы моя… что случилось?
– Успокойтесь, пожалуйста, – дрожавшим голосом выговорила Зина.
В то же мгновение она заметила отца Николая.
– Ах, какое счастье, – воскликнула она, – батюшка, это сам Бог вас посылает!
Метлина уже бежала к дочери. Отец Николай поспешно снимал с себя шубу, а Зина отрывисто, почти задыхаясь, ему говорила:
– С час тому прибежала ко мне горничная девушка… говорит: с барышней худо, а ни отца, ни матери нет… Он с утра по своей должности в Царское уехал, а когда она вернется, не знают, ждут, а ее все нет… Я поспешила и застала Катюшу такою… сами увидите, батюшка, что с нею делается… глядеть ужасно… Пойдемте, ради Бога!..
Но звать отца Николая было нечего, он не шел, а почти бежал, хотя лицо его и оставалось не только спокойным, а даже радостным. Он чувствовал в себе силу, приток необычайной бодрости, того особенного, неизъяснимого состояния, которое находило на него, когда надо было спасать ближнего.
Они в комнате Катюши. Метлина, как была закутанная в шубу, склонилась над кроватью дочери. Та лежит неподвижно, бледная, с закрытыми глазами. Метлина обернулась в ужасе к отцу Николаю, зубы ее стучали.
– Батюшка! – простонала она. – Что же это… она умирает?
Отец Николай быстрым шагом подошел к кровати и перекрестил Катюшу. В этот же самый миг ее всю передернуло. Она открыла глаза, со страхом и отвращением взглянула на священника, все черты ее исказились до неузнаваемости. Она взвизгнула страшным, не своим голосом, поднялась с кровати, хотела бежать, но вдруг упала на пол.
С нею начались конвульсии. Быстро-быстро тело ее стало принимать самые неестественные положения. Она откинула голову назад, оперлась теменем об пол и вся изогнулась, так что пятки ее почти касались головы. В таком положении, без помощи рук, она передвинулась до половины комнаты. Затем в мгновение ока, опять-таки без помощи рук, встала на ноги и выпрямилась, потом упала на грудь и так ползла, не шевеля ногами и руками.
Метлина, вся дрожа и обливаясь слезами, кидалась к ней, но ее как будто что-то не пускало. Зина, бледная, глядела, не веря глазам своим. Сам отец Николай в первую минуту как бы смутился: он никогда еще не видал ничего подобного. Губы его шептали молитву, и он время от времени издали осенял Катюшу крестным знамением.
Она его не видела, не могла видеть, так как зрачки ее открытых глаз совсем закатились кверху. Но каждый раз, как он осенял ее крестным знамением, она вся вздрагивала и неистовый ее вопль оглашал комнату.
Несколько десятков раз, с ужасающей быстротою, Катюша изгибалась вся в дугу, почти в круг, и затем мгновенно выпрямилась. Потом она сделала какой-то невероятный прыжок аршина на два от пола и со всего размаху упала, ударясь головою о стул.
Несчастная Метлина с раздирающим душу криком кинулась к дочери, думая, что та разбила себе голову. Иначе не могло и быть, так как спинка стула, о которую виском ударилась Катюша, от удара сломалась. Между тем на виске не было никакого знака. Катюша быстрым движением отстранила мать, подбежала к своей кровати и села на нее.
Теперь она как будто успокоилась. Так продолжалось с минуту. Отец Николай все громче и громче читал молитву и подходил к кровати. Вдруг опять визг. Но Катюша неподвижно сидит, будто окаменелая, зрачки ее глаз по-прежнему закатились, совсем их не видно. Лицо ужасное, неузнаваемое, красное, шея раздута…
– Зачем ты здесь? – воскликнула она хриплым голосом. – Зачем ты пришел меня мучить?.. Уходи, мне тебя не надо!.. Разве с тебя не довольно, что ты обманул отца и мать… меня не обманешь… Смотри!.. – и она показывала ему что-то: – Видишь?!
Отец Николай ничего не видел и не слышал. Он был весь углублен в молитву, он чувствовал определенно и ясно, что перед ним как бы какое-то препятствие, как бы какая-то стена обступила его со всех сторон, и через эту стену он должен проникнуть. Но стена эта страшно холодна – на него так и дышит от нее ледяным холодом, и она только тогда его пропустит, когда он превратит этот холод в тепло… и тепло это он должен извлечь из себя…
Он напрягает всю свою силу, все свое сердце – и тепло растет, растет, усиливается, непрерывной струей льется на холодные камни… и камни теплеют… Все существо отца Николая наполняется неизъяснимым усилением, неизъяснимым чувством жалости и любви. Он давно уже забыл о себе. Он только любит, только верит, только множит в себе благодатное тепло, изливающееся на стоящую перед ним преграду…
А Катюша между тем говорит, говорит.
– Жутко и хорошо под этими сводами!.. – озирается она кругом себя. – Какое богатство, какая роскошь!.. Все сокровища мира здесь собраны… золото… золото, камни самоцветные… Огонь, темно-красный огонь освещает всех. Гляди, обманщик, сколько здесь людей, все здесь, и все «ему» поклоняются! Вот он… «он»!..
Она задыхается, дрожит, но все же продолжает:
– Да, он страшен… ужасен! Но ведь, кроме него, ничего нет, он владыка надо всем, надо всеми, видишь, все преклонились перед ним!.. Все упали – и он велит им, он велит… убить… ограбить… обмануть… лгать! И за это он дает куски золота, камешки со стен своего чертога… И все убивают, грабят, лгут за кусок золота, за камешек!.. Зачем же ты обманываешь, зачем говоришь, что есть что-нибудь, кроме него, зачем ты меня мучаешь?!
Отец Николай пришел в себя и содрогнулся, расслышав последние слова ее. Он быстро подошел к ней, положил руки ей на плечи. Она мгновенно затихла, и в ней произошла перемена. Лицо ее стало спокойным, зрачки, расширенные, тусклые, опустились, глаза продолжали оставаться открытыми, лицо мало-помалу бледнело. Отец Николай взял обеими руками ее голову и прижал ее к своей груди.
– Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его… – шептали его губы.
Только он чувствовал, как уничтожился леденящий холод, как распалась преграда, стоявшая перед ним. Он чувствовал, как благодатный поток тепла, изливаясь из него, наполняет эту несчастную голову, которая прижата к его груди. Теперь он знал, наверное, знал, что вся сила зла, сила лютой, неведомой и страшной болезни исчезла. Он склонился вперед и, поддерживая голову Катюши, осторожно положил ее на подушку. Он закрыл ей глаза, перекрестил ее и отступил на шаг.
– Встань, – сказал он спокойно и твердо, – встань! Господь избавил тебя от зла и болезни!..
Катюша открыла глаза. Но теперь ничего неестественного и ужасного уже не было в ее взгляде. Она провела рукою по лбу, как будто отгоняя какую-то тяжелую грезу. Потом с изумлением взглянула на отца Николая, на мать, на Зину.
– Боже мой! – воскликнула она. – Что со мною, какой ужасный сон… ничего не помню… только ужасное что-то!..
Она еще раз взглянула на священника, слабо и радостно вскрикнула и бросилась ему на шею.
– Батюшка, – шептала она, прижимаясь к нему, – благословите меня, перекрестите… как хорошо, как хорошо, как тепло!..
Отец Николай радостно глядел на Катюшу и, обняв ее одною рукою, другой ласково гладил ее распустившиеся волосы. Метлина и Зина еще не успели прийти в себя после всех потрясающих впечатлений. Но вот они наконец все поняли и с криком радости кинулись к отцу Николаю и Катюше.
V
Велик и грозен беспросветный мрак, окутывающий мир. Ничего в нем не видно, и слышатся только из глубины его разнородные звуки – крики борьбы, ужаса, страдания, злобного торжества, вопль насыщающих себя и никогда ненасытимых злобы и мести, бессмысленный смех, вздохи грубого мимолетного наслаждения, мольба о пощаде, мольбы о помощи, безнадежные глухие рыдания, предсмертный хрип умирающей животной жизни. Все эти звуки сливаются в мрачную дисгармонию…
Что там происходит, в этом непросветном мраке? Там царствуют слепые и немые, беспощадные законы материальной природы, там сознательная борьба невозможна, победа минутна, и ее следствия ничтожны. Там страшный и загадочный Рок собирает свою созревшую жатву…
Велик и грозен безрассветный мрак, окутывающий мир, и весь этот мир, со всеми своими тайными, невидимыми в глубокой тьме явлениями, со всей мрачной дисгармонией своих звуков, – только безобразный, неведомо зачем существующий клубок материи, кишащий созданиями ее удушливых испарений…
Но вот среди непонятной тьмы загорается искра дивного, божественно прекрасного света. Эта малая искра сразу озаряет громадное пространство мрака. Она несет в себе свет и тепло, изливает их из себя неиссякаемыми потоками, и к ней из глубины клубящейся и метущейся бездны устремляется все, что способно воспринять свет и тепло. Только самые чудовищные исчадия мрака хоронятся в недоступных глубинах его, объятые ужасом безумия…
И все, что стремится к этой животворной искре, быстро меняет свои грубые, обезображенные формы, созданные мраком. Чем больше света и тепла, чем ближе их источник, тем больше красоты, гармонии, ликований. Не будь этой всеозаряющей, всепобедной искры – не было бы и мрака, ибо нельзя было бы сознать его. Было бы одно бесконечное страдание, одна бессознательная смерть, один неумолимый Рок со своими холодными, неизбежными законами.
Но все создано не для смерти, а для вечной жизни, не для безобразия, а для красоты, не для страдания, а для блаженства, не для лжи, а для истины, не для ненависти, а для любви. Жизнь, красота, блаженство, истина, любовь – все это и есть искра света и тепла, всепобедно озаряющая мрак материи. Это – чудный пятиугольник, из которого ничего нельзя взять, не уничтожив его цельности; уничтожить один из пяти углов его – значит, разрушить все, все обратить в призрак и ничтожество. Это – святой символ, звезда истинного счастья…
Где светят и греют пять лучей звезды счастья, там все преображается. Всякое жилище человеческое – от дворца до бедной хижины, со всем своим сором и пылью – сразу превращается в лучезарный храм ликующего духа…
В такой храм превратилось и жилище Метлиных: весь мрак исчез – и все пять нераздельных лучей чудной звезды светили и грели. Проходили минуты, но никто не замечал их, все внешние проявления жизни были теперь безотчетны. Все находились в высшем духовном единении, забыли себя и наслаждались счастьем. Все разместились теперь кругом отца Николая и блаженно глядели на его счастливое лицо, в его ясные глаза, изливавшие потоки ликующего света.
Он первый нарушил долгое молчание. Он вздохнул всей грудью от избытка счастливого чувства и умиленным голосом сказал:
– Боже мой, Боже мой, как нам благодарить Тебя? Как нам прославить Твое великое милосердие?! Были муки тела и духа, мрак, нищета, ложь и грех, а ныне сияет свет Твой и ликует победу любовь Твоя!..
Все три женщины при словах этих заплакали и в невольном, бессознательном порыве кинулись в объятия друг к другу. Отец Николай радостно глядел на них.
В его сердце поднялся вопрос – и этот вопрос был: за что ему такое счастье? Чем заслужил он его и чем заслужит? Он чувствовал себя таким малым, малым перед великостью Божией благодати. Ему, конечно, и в голову не пришло, что это он сам превратил горе в счастье. Но вот Метлина, обратясь к нему и продолжая, обнимать Катюшу и Зину, воскликнула:
– Батюшка… отец святой… благодетель наш… чудотворец!
Он вздрогнул, смутился, и даже строгость мелькнула в его взгляде.
– Мать, молчи! – как-то растерянно прервал он ее. – Бога благодари, а не меня… Разве это я? Разве я хоть что-нибудь могу без Бога?!
Ему стало неловко, почти тяжело, но великое счастье, охватывавшее его, тотчас же и вытеснило все иные ощущения. Метлина замолчала, боясь огорчить его, но в душе ее повторялось: «Бог через угодника Своего!» В это время в соседней комнате послышались шаги.
– Это папенька… папенька вернулся! – радостно крикнула Катюша и в миг один была уже у двери. Метлина поспешила за нею. Отец Николай остался вдвоем с Зиной.
– Ну вот, голубушка моя, – сказал он, любовно на нее глядя, – привел Господь нам вместе переживать счастливые минуты… Где же твое горе, твои страхи?.. Разве не светло и не тепло на душе у тебя?
– И светло, и тепло, – отвечала Зина, – ничего и никого не боюсь я… И спокойна с тех пор, как вы меня успокоили…
Она как бы хотела еще прибавить что-то, но он понял мысль ее.
– И ждешь, и молишься, и надеешься!.. Так, дочь моя, так! Экий день-то для нас счастливый… да и не исчерпана еще кошница Божьей благостыни… вестью доброй я тебя порадую: друг наш недалеко и вскоре будет с нами…
– Вы получили от него известие? – вся вспыхнув, с забившимся сердцем спросила Зина.
Отец Николай на мгновение как бы изумился – только не ее вопросу, а тому, что он так уверенно, так решительно сообщил ей свою весть.
– Нет, – ответил он, – не имею я от него известия, то есть письма или слуха какого, а только есть у меня, видите ли, милая моя боярышня, чувство такое, и никогда оно меня не обманывает. Коли сказал я, что он невдолге будет с нами, – значит, оно так и есть…
Он замолчал и как будто прислушивался к чему-то, даже глаза закрыл.
– Да, – еще решительнее сказал он, – близко он, близко! И увидим мы его обновленным… Так и знай! Это Бог тебе такую радость посылает!..
Вошел Метлин в сопровождении жены и дочери. Они уже сказали ему все, уже горячие поцелуи и ласки Катюши яснее всяких слов доказали ему, что его единственная, нежно любимая им дочка спасена от страшной, непонятной болезни, что теперь уже не будет унылый вид ее отравлять счастье их новой, блаженной жизни. Жена шепнула ему также, чтобы он не смущал батюшку выражениями своей благодарности…
Метлина говорила, что ее муж стал совсем новым человеком, – и это была истинная правда. В этом бодром, красивом, барственного вида человеке невозможно было узнать недавнего, совсем опустившегося телом и духом пьяницу. К нему вернулось все его достоинство прежних лет; в глазах светились и ум, и доброта. Он подошел к отцу Николаю и, приняв от него благословение, не стал благодарить его. Он молча посмотрел на него, но так посмотрел, что священник еще раз обнял его и поцеловал.
– Радуюсь, радуюсь, сударь! – говорил отец Николай. – От супруги про все дела, про все ваши новости знаю… Работаете, трудитесь… доброе дело… Бог вам в помощь!
Но Метлин вдруг как бы в смущении опустил глаза.
– Стою ли я еще таких Божиих милостей?! – сказал он. – Ах, батюшка, как гадок человек, то есть я-то как гадок!.. Ведь уж чего бы, кажется, ведь уж легко прозреть, а все слепота одолевает!.. Тяжбы мои вот разбираются… Так я, узнав, что все мои вороги да обидчики в ответе теперь и жестокую кару по закону должны понести, так возрадовался, так возрадовался – вот будто сердце пляшет от радости!.. Так все и кипит во мне – посмотрите на них… унижали они меня – их теперь унизить, да десятерицею, да сторицею! На их муки налюбоваться!..
– Что ты говоришь, что ты говоришь? Да ведь это грех смертный! – испуганно вскричал отец Николай.
– Знаю, отче, и каюсь! – продолжал Метлин. – Сутки целые, и день, и ночь, тешил я в себе сию злобу… Утром стал на молитву, а молиться-то и не могу – покинул меня Господь!.. Тут я и очнулся… ну, помогла мне сила небесная… Поборол я себя, совсем поборол и от всего сердца за врагов помолился и простил им. И так легко стало на душе, как никогда не бывало…
– Слава Тебе, Господи! – перекрестясь, воскликнул священник. – Только вот что, друже мой, ты это на деле покажи – свое прощение… свою молитву… От тебя будет зависеть… подвергнуть их, обидчиков-то твоих, всей каре закона… или простить… Так ты их прости и заступись за них…
– Простил и заступаюсь, – просто и твердо сказал Метлин.
– Вот это ладно! – обнимая его и ласково, весело похлопывая по плечу, говорил отец Николай. – И тебя Бог прощать будет… и за тебя заступится… Прощайте, други мои, порадовался я с вами и в радости вас оставляю… Мне же домой теперь пора… ждет меня кто-то… да… должно быть, кто-то ждет…
Все вышли провожать его до крыльца, а когда вернулись в комнаты, то каждый почувствовал, что хоть он и покинул их, но оставил им все то великое счастье, которое принес им с собою.
VI
Зимний, морозный вечер уже стоял над Петербургом. В заледеневших окнах домов виднелся свет. Фонари тускло мигали по сторонам улиц, почти не освещая, а только указывая их направление. Густо выпавший, прохваченный морозом снег скрипел под ногами пешеходов, визжал под полозьями. Рабочий люд кончал свой дневной труд и приготовлялся к ночному отдыху. Праздный люд начинал вечерние удовольствия. Темное, безоблачное небо все так и горело, так и переливалось мириадами ярких звезд.
Пошевни, в которых отец Николай возвращался домой, быстро мчались. Священник запахнулся в свою шубу, и ему было так хорошо в ней, так тепло. Он приподнял голову и, не замечая улиц, не видя домов, не слыша людских криков, любовался чудесными звездами, уносился в их беспредельную высь.
Ощущение бодрой, здоровой жизни наполняло его тело, чувство спокойствия и радости было в душе его, и все его мысли, все его ощущения, весь он превращался в один порыв бесконечной любви к Творцу и ко всему Его творению. Всем существом своим поклонялся Богу и благодарил Его.
Но вот… Что же это такое как бы дрогнуло в его сердце и смутило его безмятежность? Он вдруг вспомнил, что сейчас приедет домой – там его ждет кто-то, кто нуждается в его помощи; он это чувствовал еще там, у Метлиных. Он и спешит, он и поможет… но ведь там… там тоже жена, Настя, там она – это единственное испытание его счастливой, благодатной жизни!
Когда же наступит конец этому испытанию?! Вот Метлина какое слово сказала: «чудотворец»… Отец Николай даже вздрогнул, вспомнив это слово, манившее его душу в область погибельной гордыни.
Он уже не раз слыхал подобные слова в последнее время; ежедневно кто-нибудь из тех, кому он помог по Божьей милости, называл его чудотворцем, святым угодником и благодетелем. И каждый раз его будто ножом резало от слов этих. Была минута, другая, когда он совсем почти допустил врага побороть себя. Миг еще – и он бы возгордился, и он бы возомнил о себе.
Это была страшная борьба. Он вышел из нее победителем, он смирился и осознал глубоко, всей душой, все свое человеческое ничтожество. Но ведь враг силен, он караулит, он ежечасно шепчет:
«Забудь, что я враг, забудь, что я грех, забудь, что я зовусь гордыней, впусти меня в душу, я дам тебе великие, неизреченные наслаждения!..»
«Господи, помилуй, избави от лукавого…» – отвечает отец Николай на этот соблазняющий голос, а осеняет себя крестным знамением и спасает себя им от погибели.
«Святой! Хорош святой! – шепчет теперь он, глядя на чудные звезды. – Не святой, а великий грешник! На миг один оставит Господь – и так вот и полечу в бездонную пропасть, где нет звездного сияния, где нет этого дивного небесного хора, немолчно поющего славу Предвечному!.. Угодник! Хорош угодник, когда не могу спасти и поднять эту бедную, томящуюся около меня душу! Да и где мне поднять кого-либо! Бог поднимает моей слабой рукою. И ее Он поднимет, не даст ей погибнуть…»
– Настя, бедная ты моя! – вдруг почти громко произнес он.
Много любви, много нежности, много глубокого горя прозвучало в словах этих. Если бы она могла их слышать, то не сказала бы, что он ее не любит. Она была ему чужая, совсем чужая, но часто, часто помышлял он об этом отчуждении, помышлял с тоскою в сердце.
Она думала, что он не замечает ее, что она тяготит его. Последнее было, конечно, правда. Да, она являлась великой тягостью его жизни, единственным его горем. Но если это была единственная тягость, единственное горе, как же он мог не замечать ее? А уж как он за нее молился?
Он и теперь кончил горячей молитвой, и эта молитва, как и всегда, принесла ему надежду, отогнала его тоску, вернула ему душевное спокойствие и радость.
Пошевни въехали во двор княжеского дома. Отец Николай расплатился с извозчиком, благословил его и поспешно вошел к себе. В первой комнате никого нет, тихо. В углу перед образами зажжена лампада, на столе горит красивая лампа, недавно принесенная матушке услужливым дворецким из верхних княжеских покоев.
«Где же тот, кто ждет меня?» – подумал отец Николай. А ждет кто-то, чувствует он, что ждет!.. Дверь во вторую комнату отворилась и пропустила Настасью Селиверстовну.
– Настя, – сказал отец Николай, снимая шубу и вешая ее на крюк в маленькой прихожей, – есть кто-нибудь у тебя?
– Никого нет, – тихо ответила она.
– И меня никто не ждал, не спрашивал, за мною никто не присылал?
– Нет, никто. Я все время, с той поры, как ты уехал, одна была. Никто не приходил, не слыхала…
Кто это говорит? Это совсем не ее голос, он никогда не слыхал у нее такого голоса. Она стояла у двери, не трогаясь с места. Он пошел к ней и остановился, с тревогой на нее глядя.
Не она, совсем не она! Он уж и так замечал в ней перемену, а теперь она бледна, как никогда не бывала. Веки ее глаз красны, опухли от слез.
– Настя, что с тобою? Ты больна, что у тебя болит, скажи, родная? – быстро спрашивал он, беря ее за руку.
Но она ничего ему не ответила и вдруг упала перед ним на колени, поклонилась ему до земли; потом охватила руками его ноги, прижалась к ним и зарыдала.
– Прости меня, прости!.. – расслышал он сквозь ее отчаянные, потрясающие душу рыдания.