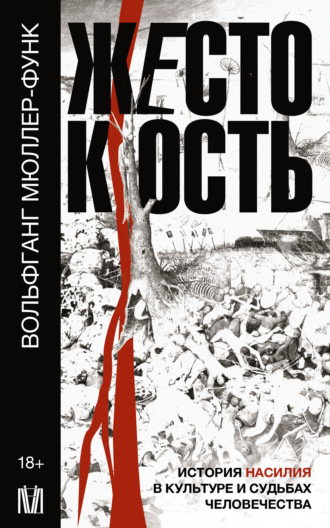
Вольфганг Мюллер-Функ
Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества
IV. Несовершеннолетние преступники и их позиции
Байнеберг – это прежде всего программный идеолог с холодным характером, которому не хватает обаяния харизматичного лидера. Тёрлес, напротив, оказывается в группе, поскольку, будучи меньшим, младшим и слабым, он примеривается к первым ролям[130]. В свою очередь склонность Райтинга к жестокости основывается вовсе не на неясном или спонтанном аффекте. Так, во время разговоров в их секретном убежище ни разу не говорится о гневе на вора. Скорее, необдуманный поступок Базини, направленный на поддержание аристократического статуса, дает уникальную возможность для серии экспериментов, которые он должен покорно переносить. Отныне Базини полностью отдан на милость своих товарищей-тиранов. То, что совершается сейчас под покровом тайны, – это символический обмен, передача души и тела в обмен на молчание. Никто не узнает о кражах Базини, если он полностью подчинится группе Райтинга. Прежде незаметный и безупречный одноклассник теперь становится объектом изучения, червем, подчиненным власти других, бессильным существом, которое может выбирать только между двумя различными формами унижения и мучений – официальной, что означает его исключение из элитного учебного заведения, и другой, то есть насилием сокурсников, наслаждающихся его беспомощностью и его психологическими и физическими мучениями. В этом случае главное – это необходимость страданий другого, а мотив мести, в котором все еще присутствует момент реципрокности, является лишь предлогом. Тот, с кем жестоко обращаются, утрачивает статус человека. Жестокость – это то, что делает человека, причем не преступника, а жертву, презренным: «А потом он снова начал умолять меня. Он готов повиноваться мне, делать все, что я ни пожелаю, только бы я никому об этом не рассказывал. За это он буквально предлагал мне себя в рабы, и смесь хитрости и жадного страха, трепетавшая при этом в его глазах, была отвратительна»[131].
Когда «инфернальная» троица наконец берет товарища под опеку, запускается спираль насилия, которую предвидел Тёрлес, самый умный и слабый из всех: «Возможна эта клетушка… Тогда возможно также, что из этого светлого, дневного мира, который он только и знал до сих пор, есть какая-то дверь [курсив мой. – В. М.-Ф.] в другой, глухой, бушующий, страстный, разрушительный мир»[132]. Размышления приводят его к выводу, что здесь присутствует еще одна сила – сексуальность, которая связана с кощунственным образом Божены. Как в реальном, так и в метафорическом смысле это ворота, позволяющие пересекать границы. Роман о Тёрлесе – это история о преодолении границ, без которого немыслима жестокость.
Есть два момента, которые делают Базини чужим. Прежде всего это итальянское имя. Можно возразить, что школа-интернат была учреждением, где воспитывалась транснациональная элита империи Габсбургов, в том числе люди с итальянскими фамилиями или родословной. Однако, например, то, что главари группы носят немецкие имена и называют товарища польским именем Джюш, указывает на динамику инаковости[133]. Кроме того, подчеркиваются «женственные» черты Базини. Он похож на женщин «с миленькими кудряшками на лбу». Немужской и, как следствие, девиантный тип в стесненных условиях казармы становится презираемой женщиной.
Сейчас уже понятно, какими будут дальнейшие повороты сюжета. Женственный Базини, который хотел доказать свою мужественность, посетив Божену, невольно превращается в «женский» сексуальный объект главаря группы. Последний тем самым становится морально уязвимым, если только два других товарища не участвуют в акте изнасилования, в принудительной близости с четвертым. У Райтинга на первый план явно выходят гомосексуальные наклонности, а у Байнеберга – желание мучить другого, чтобы поддержать свое шаткое самолюбие. В контексте романа сексуальность выступает как нечто желанное и в то же время презираемое. Принудительные гомосексуальные действия усиливают эту вирулентную смесь. Ведь, по сути, те, кто отдается сексуально – женщина, проститутка, мужчина, – становятся объектом максимально возможного презрения. Если пренебрежение к женщине основано на ее сексуальном поведении, слишком агрессивном в данном дискурсивном контексте, то гомосексуалисту отказывают в признании, поскольку он, мужчина, открыто занимает сексуальную позицию женщины. Хуже того: он, который мог бы быть полностью мужчиной, явно предпочитает быть «женственным». В этом отношении жестокие действия, которые трое совершают над четвертым, усиливают существующее в них презрение. Это, в свою очередь, открывает двери для еще более жестоких нападок. Байнеберг, идеолог, в духе времени представляет постницшеанскую расу господ, когда говорит: «Что касается Базини, то его, я полагаю, жаль не будет ни в каком случае. Выдадим ли мы его, поколотим ли или даже удовольствия ради замучим до смерти. Ведь я не могу представить себе, чтобы в замечательном мировом механизме такой человек что-либо значил»[134].
Превращение другого в низшее существо, если угодно, в кафкианского паразита, чья жизнь ничего не стоит, является продуктом и результатом того отношения к другому, которое в немецком языке обозначается словом Verachtung[135]. Приставка ver обозначает отказ, лишение или отмену именно того уважения, которое аннулируется жестоким обращением. Жестокость производит девальвации другого и этим удовлетворяет стремление к превосходству. Таким образом отключается механизм, играющий важную роль в сосуществовании людей, поведение, которое демонстрируется другому, но и ожидается от него, – уважение. В этой связи французский философ Поль Рикер говорит о «желании быть признанным»[136].
Жестокость прерывает тот эмоциональный процесс, который мы называем эмпатией, хотя ее осуществление предполагает определенную степень психологического сопереживания. Другой становится букашкой, которую можно раздавить и с которой не нужно «считаться»[137]. Радикальность «Превращения» Франца Кафки заключается в том, что в этом тексте маргинализация описывается с точки зрения человека, оказавшегося совершенно беззащитным в ситуации реального или предполагаемого презрения и беспомощности. Речь идет о форме интровертированной, интернализованной жестокости, направленной против самого себя. Это ясно уже из первого предложения: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое»[138]. Что значит быть бесполезным паразитом, – опыт, описанный в наглядном физическом образе, – показывается здесь изнутри, поскольку другие, родители и сестра, еще ни о чем не знают. Замза, человек с лепечущим именем, принимает отказ в признании со стороны своей семьи, предвидя или, скорее, подтверждая его. Когда он обнаруживает, как это тонко выражено, произошедшее с ним превращение, он переживает метаморфозу, которая делает из человека ничтожное и не поддающееся определению существо. Речь идет о редукции извне, которая, однако, проистекает из его собственного воображения, из отголосков его снов. Прежде чем другие символически уничтожат и нейтрализуют его, он совершает это действие над собой как над предметом внешнего мира, res extensa[139] в картезианском смысле.
Музиль не заходит так далеко в своей фокализации. Она относится исключительно к преступникам, прежде всего к Тёрлесу. Байнебергу интересно «учиться на таком деле». Он хочет «помучать» Базини[140]. В целях специфической мужской социализации он хочет как бы убить в себе «сочувственное бездействие», вспоминая об «ужасных искупительных жертвах просветленных монахов», о которых он читал: «Все жестокие вещи, при этом творящиеся, имеют одну лишь цель – умертвить жалкие, направленные вовне желания, ибо все они, будь то тщеславие, голод, радость или сочувствие, только уводят от того огня, который каждый способен в себе пробудить»[141]. Такой идеал мужественности – это то, к чему стремится Байнеберг, напротив, мягкий и женственный «итальянец» Базини воплощает его противоположность. Скрытая бинарность дискурса – аристократ-господин и современный раб – усиливает безрассудную готовность к применению насилия. Пощадить обидчика – это женственно и слабо, «идет от низменного, внешнего». Жестокость в этом дискурсе превращается в жертву, которую приносит сильный человек. «Что мне будет трудно мучить Базини – то есть унизить его, подавить, отдалить от себя, – это как раз и хорошо. Это потребует жертвы. Это подействует очищающе. Я обязан перед собой ежедневно постигать на его примере, что сама по себе принадлежность к роду человеческому решительно ничего не значит – это просто дурачащее, внешнее сходство», – говорит Байнеберг[142].
Используя формулу Музиля, происходит «повторение подобного»: в разных сценах Базини против его воли раздевают, сексуально используют, избивают, оскорбляют и хлещут плетьми. И вновь обращают на себя внимание в чем-то привлекательные, женственные черты жертвы: «Базини улыбался. Ласково, мило. Застыв, как на портрете, улыбка его выступала за рамку света»[143]. В дополнение к запланированным пыткам Байнеберг мучает Базини, стыдя его и напоминая ему о «позорных поступках», за которые он более чем заслужил жестокое обращение. О радикальном характере текста говорит то, что соучастника и зрителя этой сцены также охватывает «животное желание прыгнуть туда и бить»[144].
Проступок Тёрлеса заключается в том, что он заставляет истекающего кровью одноклассника вслух признать свою моральную вину словами: «Я вор». Позднее Базини справедливо заметит, что подобное предварение действия придает жестокости психологическое измерение. Драматической кульминацией романа является сцена, в которой Тёрлес и Базини остаются друг с другом наедине. Решающей здесь является радикальная раздвоенность между отвращением и «ужасной чувственностью», которую переживает Тёрлес. Ситуация накаляется, когда униженный одноклассник, как будто под гипнозом, добровольно раздевается догола: «Внезапное зрелище этого голого, белого, как снег, тела, за которым красный цвет стен превращался в кровь, ослепило и потрясло его. Базини был хорошо сложен; в его теле не было почти ничего от мужских форм, в нем была целомудренная, стройная, девичья худощавость. И Тёрлес почувствовал, как от вида этой наготы загораются белым пламенем его нервы. Он не мог уйти от власти этой красоты. Он не знал раньше, что такое красота»[145].
Главный герой стыдливо отгоняет нахлынувшую похоть мыслью о том, что Базини все же не женщина, а мужчина по анатомическим и половым признакам. Затем начинается своего рода перекрестный допрос, в ходе которого он просит Базини во всех подробностях описать унижения, которым подвергли его двое других. Он хочет заставить его снова рассказать правду, на этот раз не о кражах, а о жестоком обращении, которому он подвергся. К стыду преступника теперь добавляется стыд жертвы. В этой ситуации рассказ вызывает в памяти пережитую травму. Кроме того, Базини приходится терпеть упреки в том, что он трус, раз позволил всему этому случиться с ним, ведь он добровольно лаял, терпел уколы иглами и находился под гипнозом.
Во время допроса Базини сообщает Тёрлесу, что избиение в глазах того, кто его совершает, имеет принципиально иной, дополнительный смысл: Райтинг «говорит, что если бы не бил меня, то непременно думал бы, что я мужчина, а тогда он и не смог бы быть со мной таким мягким и ласковым. А так, мол, я его вещь, и тут он не стесняется»[146]. Это третий уровень жестокости. Райтинг должен избить свою жертву, потому что это не мужчина, а женщина, подтверждением чего служит ссылка на мягкость и нежность. В акте насилия гомосексуальность превращается в гетеросексуальность. Тем самым гомосексуальность исчезает, так же как Базини теряет свою мужественность в результате насилия над ним. «Женщина» позволяет мужчине быть нежным и жестоким. «Женщина» и «вещь» сливаются в акте жестокости.
В центре допроса, который занимает место сексуально окрашенного оскорбления, находится вопрос о том, как считающий себя морально безупречным Тёрлес, взявший на себя роль судьи, повел бы себя в кризисной ситуации, в которой оказался Базини[147]. Сначала Тёрлес отклоняет этот вопрос, но вскоре отвечает на него в измененной форме. Если бы он вел себя как Базини, то он бы чувствовал себя так же.
В конце близость все же случается, и в этот момент мотивы допрашивающего легче понять, чем мотивы допрашиваемого. Отвращение Тёрлеса, очевидно, ослаблено пониманием того затруднительного положения, в котором оказался его двойник Базини; он сопротивляется неожиданному сексуальному опыту, который в романе описан как едва заметное движение рук. Сексуальный контакт остается за рамками текста. В каком-то смысле Тёрлес, как и Базини, принимает зеркальную ситуацию, в которой он невольно оказывается.
В то же время он переживает мучительную сексуальную экзальтацию: вокруг него «шумели чувства, как похотливые женщины в доверху закрытых одеждах, укрытые под масками»[148].
Базини, напротив, воспринимает сопротивление Тёрлеса как попытку еще больше унизить его, чем это удалось двоим другим товарищам. Он добровольно и активно предлагает себя ему, ведь в такой ситуации близость может привести к определенной форме признания. Инстинктивно он ищет помощника для самосохранения, и главный герой истории предлагает себя в этом качестве, затрагивая вопрос о находящейся под угрозой или утраченной самооценке Базини.
События развиваются по нарастающей и, кажется, приближают нас к драматическому финалу. Но завершение романа не катастрофично. Тёрлес восстает против двух старших товарищей, тем самым подвергая себя опасности, ведь его может постичь та же участь, что и Базини. Прежде чем эти двое смогли нанести последний сокрушительный удар и выдать свою жертву классу, главный герой заставляет измученного товарища сообщить обо всем руководству школы.
Интерпретация, которую принимает рассказчик, исходит из катарсического эффекта. Благодаря необычному опыту Тёрлес, – тут Музиль вновь делает отсылку к имени главного героя – «узкий проход», «замкнутый человек», стал немного взрослее. Это акт самопознания. Вопрос вины и соучастия больше не играет решающей роли.
Какие элементы дискурса лежат в основе жестокого события? Какие из них способствуют высвобождению и субъективному проявлению насилия? Нарушение границ, которое показано в романе, не должно приводить нас к поспешному выводу, что это только темные размышления вне символического порядка. В определенной степени норма мужественности, на которую ориентирован порядок в школе-интернате, несомненно, играет роль в современном историческом контексте. Кроме того, молодой человек должен научиться терпеть жестокость по отношению к себе в двойном смысле этого слова. Мужчина должен терпеть ее по отношению к себе, как неоднократно заявляет Байнеберг, и учиться выдерживать собственную агрессию по отношению к другим. Это подразумевает категорическое исключение эмпатии. Так в мужчине проявляется мужественность, тесно связанная с военным делом. В этом смысле все трое вместе с четвертым празднуют приватное посвящение в определенную форму мужественности. Сюда же относится и презрение к женщинам как противоположному полюсу, которое проявляется в отвращении к другим, женственным мужчинам.
Три молодых человека воплощают три разных формы насилия: Райтинг, не проявляющий особых теоретических амбиций, представляет собой типичный вариант преувеличенной мужественности; Байнеберг обосновывает свою жажду жестокости эзотерическими учениями об умерщвлении боли; Тёрлес, холодный, испытующий, научный дух, движимый любопытством, использует допрос как самую рискованную форму диалога. Последний в конечном счете рассматривает Базини прежде всего как интересный объект для изучения. Во всех трех случаях поначалу доминирует расчет и связанное с ним усиление насильственных, травмирующих действий по отношению к жертве. Даже если они иногда оскорбляют четвертого, это происходит в основном не из-за спонтанной ярости или агрессии, а как часть систематически практикуемых истязаний.
Тёрлес является здесь наиболее интересной фигурой, потому что Базини, сексуальный объект, очевидно вызывает в нем чувственное возбуждение. Это обстоятельство в итоге приводит к разрушению радикальной дистанции, которая сделала жестокость возможной. В этом есть нечто парадоксальное. Жестокий человек знает, что он делает с другим. У него есть чувствительность к причиненной боли, знание, от которого он должен отделиться или встроить его в модель мышления, где боль имеет позитивные коннотации. Вероятно, здесь будет уместно напомнить о концепции альгодицеи – оправдания боли как онтологической возможности нашей жизни, – предложенной Питером Слотердайком[149].
Вернемся ненадолго к роману Стендаля: Жюльен хочет хладнокровно управлять женщинами и использовать их, чтобы избавиться от своего низкого происхождения. Но оказывается, что эротически окрашенная любовь не поддается рациональному контролю. Тем самым нарушается дистанция, теоретически необходимая для совершения жестокого поступка. Жюльен влюбляется в Матильду, но в счастливом конце им обоим отказано: бывшая возлюбленная обвиняет его в эмоциональном и моральном насилии над ней – и именно из холодного расчета.
В конце жестокой и серьезной игры Тёрлес пренебрегает важным правилом – он нарушает запрет на сопереживание. Причиной этого становится его сексуальная близость с Базини, а также его страх самому стать объектом пыток. В этой ситуации он становится «предателем» малой социальной группы и исключается из нее. Он предупреждает замученного одноклассника о следующей волне насилия, которую двое других планируют против него, и призывает его сообщить директору школы о своих проступках и жестоких действиях по отношению к нему.
Целенаправленные пытки, представленные в романе Музиля в форме традиционной мужской социализации, не являются следствием аффекта. Если в «культе жестокости» парадоксальным образом можно увидеть наслаждение, то здесь возникает «извращенная», запутанная драма влечений, в которой, говоря на языке психоанализа, либидо и агрессия накладываются, объединяются и пересекаются друг с другом. Таким образом, «культ» жестокой «страсти» – это дискурс, который допускает очень специфическую форму жестокости, нейтрализуя другие аффекты, прежде всего эмпатию.
Его привлекательность также подразумевает элемент нарциссизма, который в случае описываемых событий является уязвимым и рискованным. Его цель не просто самосохранение, а превосходство. Самая радикальная форма превосходства – и это вполне очевидно в случае Райтинга – заключается в том, что подчиненный человек боится другого. Это повышает значимость последнего, которая всегда находится под угрозой. Из-за страха мучитель воспринимается жертвой как вездесущий, в ее испуганном взгляде, словно в перевернутом зеркальном отражении, он видит себя всемогущим сувереном.
VI. Послесловие. К фантазии о всемогуществе: Арнольд Цвейг
Фантазию о всемогуществе, которая занимает значительное место в творчестве Роберта Музиля и, кажется, утверждается и подкрепляется жестоким действием, мы встречаем и у главного героя одного из романов Арнольда Цвейга – русского сержанта Гриши. В начале своей военной карьеры он, оглядываясь назад, размышляет о своем первоначальном отношении к жестокости:
Раньше, всего несколько недель тому назад, он ни о чем не думал, беря в руки ружье – знакомый забавный предмет. Его охватывала, поднимала, словно на гребень волны, страсть человека, который может убивать, поражать на далеком расстоянии, словно ему дана способность дунуть и за сотни метров погасить жизнь, как искорку, какой она является на самом деле. Он был человек со штыком, боец, хищник, и каждый мускул его страстно трепетал от бурного упоения битвой. Теперь он смутно воспринимает и противника, притом не только как человека, который шлет ему ответную пулю, но и как того, чья плоть принимает удар и рану, чье тело испытывает потрясение и страшную боль[150].
В размышлениях персонажа особенно сильно подчеркивается аффективная сторона, что, на первый взгляд, противоречит выдвинутому ранее тезису о том, что жестокость не возникает из спонтанного чувства. Однако страсть, о которой говорится в приведенном фрагменте, относится не к противнику на поле боя; она в значительной степени связана с повышенной самооценкой того, кто чувствует себя способным убивать. Насколько неустойчивой является такая страсть, видно из того, что ей всегда угрожает эмпатия: ты причиняешь другому боль, которую можешь почувствовать сам, – об этом прямо говорится в цитате. Ведь жестокость основана на глубоком и тонком знании боли, которую один причиняет другому.
То, что жестокость направлена на конкретный объект и совершается в сознании преступника, не означает, что за психическими событиями не стоят скрытые и бессознательные мотивы. Решающим является планомерное и расчетливое использование средств с целью символического или реального уничтожения другого.


