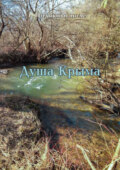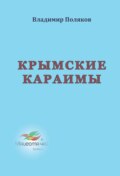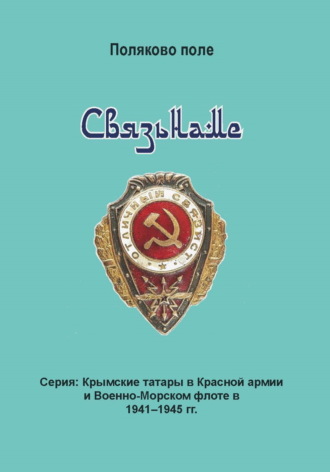
Владимир Поляков
Связьнаме
По состоянию на 1 января 1940 года в Красной армии были:
1. Военно-электротехническая академия имени С.М. Будённого.
2. Военный факультет при Московском институте инженеров связи.
3. Киевское военное училище связи.
4. Харьковское военное училище связи.
5. Ульяновское военное училище связи.
6. Воронежское военное училище связи.
7. Орджоникидзевское военное училище связи.
8. Ленинградское военное училище связи.
9. Сталинградское военное училище связи.
10. Центральная школа связи.
11. Окружные курсы усовершенствования начсостава связи.
Если вспомнить исходную триаду и обратиться к структуре, то в соответствии с приказом № 4/100 утвержденным 5 апреля 1941 г. в каждую стрелковую дивизию уже входил батальон связи.
Дивизия, как известно, состоит из полков. Соответственно в каждом полку в свою очередь была своя отдельная рота связи численным составом 75 чел.
В свою очередь рота связи включала в себя 2 телефонносветосигнальных взвода по 26 чел. в каждом, и радиовзвод, в составе командира, 4 сержанта и 4 рядовых.
Стрелковый полк состоит из батальонов. В каждом стрелковом батальоне был взвод связи, который включал в себя: телефонную станцию (5 чел.); радиогруппу (7 чел) 2 телефоннокабельных группы по 9 чел.
В молодости автору довелось почти год послужить в полку связи, который обслуживал ВВС Тихоокеанского флота. Это были сотни автомобилей, на которых были установлены радиостанции. 90 % их находились на консервации и стояли на колодках, выезжая из парка только на ученьях. В 1941–1945 года полки связи были в составе каждого фронта.
К 1941 году в СССР было всего три завода, производящих то или иное оборудование для радиосвязи: «Красная заря» (телефоны), завод им. Кулакова (телеграфы), завод им. Коминтерна (радиоаппаратуру). Этих производственных мощностей, конечно, не хватало, чтобы обеспечить армию необходимым оборудованием, к тому же, очень скоро все эти заводы были эвакуированы в тыл.

Рис. 4. Телефонный аппарат ТАБИП-1
Интересна история самой массовой армейской радиостанции «Север». Основой послужил дипломный проект Б.А. Михалина, выполненный в МЭИС в 1939 году – малогабаритная радиостанция гражданского назначения. Один из членов комиссии сразу же оценил её значение для армии и уже в 1939–1940 годах в Научно-исследовательском институте по технике связи Красной Армии (НИИТС КА) Б.А. Михалиным, В. Покровским и И. Мухачевым под руководством профессора МЭИС, главного инженера НИИТС КА Б.П. Асеева был разработан армейский вариант. После войсковых испытаний опытной партии радиостанция была принята на вооружение под наименованием «Север». Серийное производство началось в октябре 1941 года в Ленинграде на заводе им. Козицкого и продолжалось в условиях блокады. До конца 1941 года было выпущено около 1000 шт., к концу 1943 года темп выпуска достиг 2000 шт. в месяц [16].

Рис. 5. Радиостанция «Север»
С началом войны отсутствие «самой современной связи» сразу же проявилось со всей ужасающей очевидностью, что неизбежно повлекло за собой отсутствие объективной информации и, как следствие, принятие неадекватных управленческих решений.
Вот типичная картина первых дней войны, созданная по воспоминаниям её непосредственных участников.
«Из Бреста сообщили по телефону, что в некоторых районах города и на железнодорожной станции погас свет и вышел из строя водопровод. Через несколько минут произошла авария на электростанции в Кобрине. А еще через полчаса ко мне вошел взволнованный начальник связи армии полковник А.Н. Литвиненко и прерывающимся голосом доложил:
– Со штабом округа и со всеми войсками проволочная связь прекратилась. Исправной осталась одна линия на Пинск. Разослал людей по всем направлениям исправлять повреждения» [17, с. 92].
«В единственной на командном пункте палатке обосновались и командующий, и член Военного совета, и почти все основные работники штаба армии. На столе – две сальные свечи и аппарат Морзе. Телеграфная связь со штабом фронта очень неустойчива, и на аппарате работает лично начальник связи армии полковник А.Н. Литвиненко. Попытки связаться с фронтом по радио из-за дальности расстояния не удаются. Связь с соединениями поддерживаем только через делегатов». [17, с. 127].
«… со связью у нас с первого часа войны всё как-то пошло кувырком. Вместо уставной системы связи «сверху вниз», как правило, складывается обратный порядок: снизу – вверх. Мы ищем связи со штабом фронта, штабы соединений – с нами, штабы частей – со штабами соединений, командиры подразделении – со штабами частей. В результате управление войсками нарушается». [Там же, с. 132].
Как и в ПМВ немцы блестяще организовывают радиоперехват и, как следствие, максимально были обеспечены всесторонней информацией. К тому же следует отметить «радиобоязнь», которая поголовно была в РККА в первую половину войны. Тем не менее, фронтовые реалии показали, что без широкого ассортимента средств связи управлять войсками невозможно. Радиостанция была нужна в каждом батальоне, в каждом танке, в каждом самолете, в каждом партизанском отряде…

Рис. 6. Сданные населением радиоприемники
Спасти ситуацию можно было только налаживанием массового выпуска радиостанций «Север», которая обеспечивала связь на расстоянии до 500 км, а в отдельных случаях умельцы разгоняли её до 600–700 км. Изъятые у населения СССР радиоприемники централизовано отправлялись на завод «Коминтерн» и там из них вынимали столь дефицитные лампы и ставили их в военные радиостанции. За время войны выпуск таких станций возрос в пять раз.
В целом ситуацию стали исправлять только в 1942 году. Для всех командиров от батальона и выше ввели обязательные личные радиостанции, с приставленными к ним радистами и шифровальщиком. К этому времени удалось произвести часть необходимого оборудования, кроме того радиотехнику закупали по ленд-лизу. В результате чего уже к 1943 году советская армия была полностью обеспечена и немцы утратили своё превосходство в техническом обеспечении связью.

Рис. 7. Радист за работой
Ненадежная радиосвязь или её полное отсутствие было «ахилессовой пятой» советских танков.
Вновь обратимся к воспоминаниям командующего 1-й гвардейской танковой армией М.Е. Катукова о его встрече с Наркомом танковой промышленности «… тут я вспомнил об одном досадном недостатке в оборудовании танков, который приносил нам немало хлопот. Дело в том, что в конце сорок первого и начале сорок второго на командирских танках ставили обручевидные антенны, а на остальных – штыревые. В боевой практике это приводило к тому, что противник без труда различал танк командира и сосредоточивал на нем огонь» [8, с. 147].
В советской военной авиации до войны радиосвязью оборудовались только бомбардировщики. Так получилось, что мой отец штурман звена 39 ближнего бомбардировочного авиаполка, в 1938 году как бы по совместительству стал начальником связи своей эскадрильи. В этой должности он прошёл финскую войну. Затем был направлен на курсы повышения квалификации в Военно-воздушную академию имени Жуковского. Великую Отечественную встретил в Пинске в должности начальника связи своего полка. После участия в обороне Москвы, оставшийся без самолётов и почти без экипажей полк был отправлен на переформирования и вновь оказался на фронте уже под Сталинградом.
Приказом № 05 от 20.02.43 командующего 17 воздушной армии одним из первых в полку капитан Поляков был награждён боевым орденом.
Как я понял из наградного листа, главная его заслуга заключалась «в блестящей организации связи». Дело в том, что с началом боевых действий, командование и авиаполка, и авиадивизии было поражено открывшимися возможностями применения радиосвязи в воздухе.
Обратимся к тексту наградного листа: «Поляков Е.М. 1911 г.р. Русский. Призывался из Симферополя. Помощник начальника штаба – начальник связи полка.
Участник Финской войны с 01.02.40 по 12.03.40. Жена проживает в Бухарской обл. г. Кермене. Ул. Керменская, 6.
Участвует в войне с июня по декабрь 1941 и с декабря 1942 по настоящее время.
Лично овладел радиосвязью в воздухе. За период с 16.12.42 полк совершил 145 боевых вылетов, за это время передано на землю и принято 240 радиограмм. Полёты групп имели связь внутри строя. С земли передано двадцать радиограмм с приказами о перенацеливании, шесть о состоянии погоды. Две радиограммы приняты самолётами от наземных станций с предупреждением об атаках истребителей. Двадцать пять вылетов на разведку обеспечивались радиосвязью. Отказов в технике не было ни разу. Лично осуществляет контроль и руководство связью и контроль выполнения заданий. Совмещая работу начальника связи, совершил 5 боевых вылетов».
Дата. 22 января 1943 г. Представлен к ордену «Красная Звезда».
Примечательно, что Командующий воздушной армии, вопреки общепринятой практике, когда, как правило, вышестоящие власти снижали статус награды – её повысил. Первым в 17-й воздушной армии, капитан Поляков получил, только что учреждённый орден Отечественной войны II степени. Когда я пишу эти строки, отцовский орден лежит передо мной. На обратной стороне хорошо просматривается серийный номер 7752.

Евгений Матвеевич и Полина Александровна Поляковы. Узбекская ССР, Бухарская область, г. Кермине. 1943 год.
20 февраля издается приказ командующего Юго-Западного фронта генерала армии Ватутина № 228, в котором, что интересно, тот же орден «Отечественной войны» получил непосредственный начальник отца, начальник связи 3-го смешанного авиакорпуса подполковник Ратушняк Антон Федорович. Вероятно, всё это события одной цепи – признание возросшей роли радиосвязи.
Совершенно неожиданно военная связь вошла в жизнь военного сапера Героя Советского Союза крымского татарина Узеира Абдураманова.
Ещё только готовились к отправке в Москву наградные документы, как по каким-то своим делам в штабе 65-й армии, в которой служил наш земляк, оказался маршал войск связи И.Т. Пересыпкин. Ознакомившись с наградными документами, он неожиданно попросил Командующего 65-й армией направить 12 будущих героев в его распоряжение.
Зачем? – изумился Батов.
– Хочу направить их учиться! Это будут прекрасные специалисты.
Недолго думая, Батов согласился, но в свою очередь попросил у наркома войск связи 12 новых американских радиостанций. Как говорится: «Баш на баш». Сделка состоялась [1].
Так, решилась судьба Узеира Абдураманова. Он уехал учиться в академию связи. Уже оттуда его вызвали в Кремль, где М.И. Калинин и вручил ему Звезду героя.
Отдельная тема – это применение радиосвязи крымскими партизанами. Обратимся к исходному документу – приказу № 1 Командующего Центральным штабом партизан Крыма, из которого процитируем только два пункта: «11. Немедленно направить в мой штаб по четыре человека связистов. 12. В связи с тем, что радиосвязь будет установлена моим штабом – начальникам районов своих передатчиков не иметь, а если такие уже установлены, пользоваться ими только по моим указаниям. Шифр для связи будет установлен и выслан дополнительно» [6, л. 3].
Под словом «связистов» А.В. Мокроусов подразумевает – «связных» или, как говорили в старину, «гонцов» – людей, которые должны передавать устную или письменную информацию. Способ связи самый архаичный, применяемый, вероятно, с самых первых войн, которые вело человечество.
Требование не иметь своих передатчиков, свидетельствует, о его понимании того, что связь с вышестоящим командованием чревата непредсказуемыми последствиями. С другой стороны связь, – это возможность получать альтернативную информацию. Не случайно с началом Великой Отечественной войны у населения были изъяты все радиоприемники.
Из приведенного пункта 12 цитируемого приказа следует, что А.В. Мокроусов был уверен, что радиосвязь у него будет. В реальности он её так и не получил. В одном из своих донесений он потом писал: «Не повезло и с радистами – их не оказалось. Обещали прислать позднее» [14, с.61].
В начале 1942 г. в своём письме В.С. Булатову А.В. Мокроусов отмечал: «Всё же самым больным вопросом является связь с Вами и районами. Присланная т. Каранадзе (начальник НКВД Крымской АССР) с т. Кобриным рация маломощна, действие её до 25 км, а в условиях леса и гор мощность её резко понижается. Мы и некоторые районы принимаем сводки Информбюро на самодельных приемниках.
Из-за отсутствия технической связи с районами приходится высылать живую связь, которая перехватывается фашистами. Так, например, чтобы связаться с 1-м районом, пришлось дважды высылать связных и только 30 декабря 1941 получили сведения о деятельности этого района» [6, л. 144].
Как следует из этого письма, в течение двух месяцев не поступало никакой информации о жизни, боевой деятельности одного из пяти партизанских районов. О каком же управлении этим районом со стороны Центрального штаба может в таком случае идти речь?
Не лучше оказалась ситуация и внутри самих районов. Вот что вспоминал впоследствии его командир 2-го района И.Г. Генов: «Двадцать дней понадобилось на то, чтобы установить связь между 2-м партизанским районом и Центральным штабом» [3, с. 63]. Начальник Центрального штаба И.К. Сметанин писал: «Связь с 1 и 2 районами, а также с командующим – живая, но очень длительная и опасная, что, по моему мнению, затрудняет руководство командующего, а последнее время: апрель-май совершенно связь отсутствовала» [12, с. 73].
Если отсутствовала связь между Центральным штабом и районами, то, как обстояло дело внутри районов? Вот как впоследствии оценивал ситуацию в ту пору боец 3-го партизанского района А.А. Сермуль: «Отряды локтевой связи между собой не имели. 3-й отряд стоял в урочище Алмалан, а 2-й Симферопольский – на Аспорте. Расстояние между ними день ходу, а 1-й Симферопольский отряд стоял вообще на Альме. Сутки надо было идти, чтобы передать какое-нибудь приказание» [18, с. 23].
«Более полумесяца находимся в лесу. Рации нет. А противник распространяет всякого рода провокационные слухи вроде того, что взят Ленинград, окружена Москва, в течение двух недель будет занят Севастополь, а затем очередь дойдет и до партизан» [3, с. 51].
Только в начале декабря командованию 2-го района удается установить связь с Центральным штабом. До этого И.Г. Генов отправлял 13 человек (!), и только, посланный 17 ноября 1941 г., партизан Г.П. Гаркавенко 27 ноября нашёл А.В. Мокроусова и 8 декабря возвратился во 2-й район. «Самая хорошая директива или информация, полученная с опозданием, теряет своё значение и ценность», – с горечью писал И. Г. Генов. [Там же, с. 63].
Потери связных были огромными. Как отмечала Е.Н. Шамко: «Только с ноября 1941 года по июль 1942 погиб 31 связист» [20, с. 17].
В конце марта 1942 г. четверо партизанских разведчиков, следуя через мыс Айя, вышли в расположение оборонявших Севастополь частей. Их доставили к командующему Приморской армии И.Е. Петрову. Старший в команде Натан Кобрин вручил зашитое в подкладку письмо от командира 3-го партизанского района майора Г.Л. Северского.